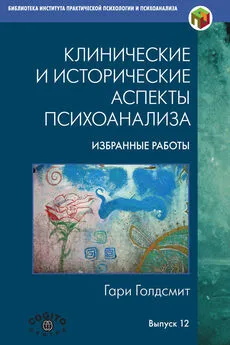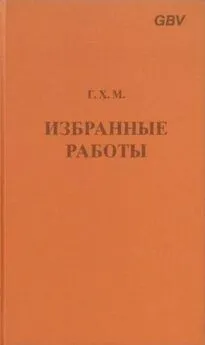Николай Хренов - Избранные работы по культурологии
- Название:Избранные работы по культурологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Согласие»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906613-01-1, 978-5-906709-01-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Хренов - Избранные работы по культурологии краткое содержание
Книга предназначена для ученых-культурологов, преподавателей культурологии, докторантов и аспирантов, ведущих исследования по проблемам культурологической науки и образования.
Избранные работы по культурологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ставя вопрос о необходимости рассмотрения искусства в культурологической перспективе, И. Грабарь констатирует, что в соответствии с этой перспективой следует рассматривать несколько проблем: логику преемственности в развитии искусства, воздействие на искусство художественных процессов, имеющих место в других, соседних культурах и, наконец, влияние на актуальное искусство предшествующих процессов, что получило выражение во внутренней для отечественного искусства традиции. Таким образом, настаивая на совпадении двух историй – истории искусства и истории культуры, И. Грабарь, тем не менее, говорит, что культура имеет свои «законы», которые следует постигать. Сам И. Грабарь не претендует на полное знание этих «законов» и своей целью ставит хотя бы «почувствовать ход истории».
Но что означает формула И. Грабаря – история искусства есть история культуры? Это означает, что исследование этой истории необходимо погрузить в общий контекст культуры, в культуру, в которой составными частями должны входить и наука, и игра, и нравственность, и миф, и культ, и религия, и философия. Следовательно, если под культурой подразумевать и то, что не имеет отношения к искусству, то, стараясь следовать этой формуле, мы вынуждены рассматривать искусство в его взаимодействии с остальными слагаемыми культуры, в том числе, с религией, философией, наукой и т. д. Но известно, что в последние столетия искусство от этих сфер успело обособиться, автономизироваться. Утверждая подобное, не оказываемся ли мы во власти ошибочной мысли, требуя возвращения к тесной зависимости искусства от остальных сфер культуры?
Однако в том-то и дело, что именно в эпоху Серебряного века повсеместным было осознание надвигающегося кризиса не только существующего искусства, но и культуры в целом. Многим этот кризис казался следствием обособления искусства от других институтов, например, от религии и, прежде всего, от религии. Собственно, эта проблема оказалась следствием все того же индивидуализма в искусстве, негативные стороны которого отмечал, как мы убедились, А. Бенуа. Находясь в эмиграции, В. Вейдле в 1937 году печатает в Париже книгу под названием «Умирание искусства» [77], в которой ставит диагноз «смерти» искусства, выписывая рецепт, способный помочь его выздоровлению. Для него таким способом выхода из кризиса является также возвращение искусства в лоно религии. В 1937 году эта идея кажется уже не оригинальной, хотя позднее ее повторит в своей знаменитой книге 1948 года «Утрата середины» Х. Зедльмайр.
Но одним из первых, кто эту идею высказывает со всей определенностью, анализируя произведения символизма и футуризма, пожалуй, был Н. Бердяев, выпустивший в 1918 году книгу под названием «Кризис искусства» [36]. Хотя справедливости ради следует сказать, что и Н. Бердяев не был первым, кто диагностировал «смерть» искусства. Пожалуй, многие тенденции всего Серебряного века начались с философии В. Соловьева. В. Соловьев первым диагностировал кризис и предлагал в качестве выхода из него возвращение искусства в религию. Таким образом, выходом из этого кризиса казалось, начиная с В. Соловьева, преодоление развернувшейся на протяжении столетий автономизации искусства и возвращение к той ситуации, когда имело место единство искусства с остальными сферами культуры. Но такой выход не был лишь уделом дискуссий и публикаций. О нем свидетельствовала практика искусства этого времени. Вот, наверное, еще почему искусство, разрушая все некогда установленные границы, устремлялось к культу, мифу, игре, сакральному, религии.
Однако когда интеллигенция начала возвращаться в религию, то выяснялось, что русская православная церковь, нуждаясь в реформах, им противится. Так, к жизни «новое религиозное сознание» вызвали художники и мыслители этой эпохи. Очевидно, что этим самым они возрождали то состояние искусства, для которого характерна неразличимость искусства и культа, искусства и мифа, художественного и сакрального. Вот почему искусство этого времени следует рассматривать в соотнесенности с так называемым «новым религиозным сознанием».
Разумеется, это не могло не проявиться в искусстве. В качестве иллюстрации здесь можно сослаться на потребность художников в возрождении монументальной и, еще точнее, фресковой живописи. Некоторые художники, а к ним, например, относятся Врубель, Васнецов, Нестеров, расписывают интерьеры храмов. Вот почему еще художникам и мыслителям этой эпохи потребовались ретроспекции в самые разные эпохи и культуры, что так ярко проявилось и в цитируемом трактате В. Брюсова, и в открытии в начале истекшего столетия древней иконы. Пожалуй, именно это следует отнести к основополагающим признакам искусства этой эпохи, синтезирующей все возможные и имеющие место в истории слагаемые культуры и не только отечественной.
Именно в этот период обращает на себя внимание необычайная открытость русской культуры, ее готовность и способность ассимилировать элементы других, часто уже не существующих культур и одновременно устремляться к ранним эпохам собственной истории. В этом и заключается исключительность сложившейся в искусстве Серебряного века ситуации, что диктует и особую методологию исследования искусства этой эпохи. Она будет реальной для изучения любой эпохи в истории искусства, в том числе, и той, в которой такой радикальной ломки границ между художественным и нехудожественным, древним и новым не происходило.
В качестве первостепенных задач для историка И. Грабарь выделяет преемственность в русской культуре и влияние на нее других культур. Этот вопрос он поднимает не случайно. Именно русское искусство начала XX века ощущает интенсивные, но часто забываемые связи с другими культурами. Тот и другой момент художественная критика этого времени активно обсуждает. Так, реагируя на возрождение византинизма в русской живописи этого времени (например, у В. Васнецова) и вообще на открытие в искусстве под воздействием возрождающегося славянофильства в это время художественного опыта допетровской Руси, С. Маковский подчеркивает, что «прививки» в русском искусстве связаны не только с византийскими и скандинавскими корнями. Важно, например, учитывать западные заимствования России XVI и XVI веков. Причем, эти влияния касаются не только профессионального, но даже и народного искусства. «Допетровские лубки, вышивки на полотенцах, резные украшения, орнаменты, стилизованные изображения, которые принято считать безусловно народным творчеством, – пишет он, – как часто они заимствованы у итальянских и немецких первоисточников» [192, т. 2, с. 36]. Однако критик справедливо утверждал, что дело не в заимствованиях, а в способности их творчески перерабатывать. «… Вопрос не в формах, – пишет он, – а в их одухотворении, в неопределимом трепете красоты, внушенной веками национальной жизни» [192, т. 2, с. 38].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: