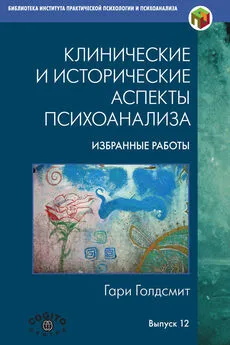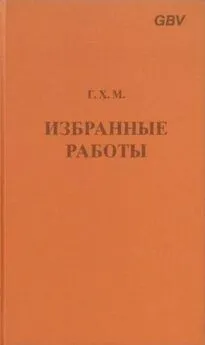Николай Хренов - Избранные работы по культурологии
- Название:Избранные работы по культурологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Согласие»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906613-01-1, 978-5-906709-01-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Хренов - Избранные работы по культурологии краткое содержание
Книга предназначена для ученых-культурологов, преподавателей культурологии, докторантов и аспирантов, ведущих исследования по проблемам культурологической науки и образования.
Избранные работы по культурологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Улавливая за уже найденными ритмами истории событий (от «шестидесятников» XIX века) ритмы истории структур (от Средневековья к Новому времени, а значит, к модерну и от модерна снова к Средним векам), В. Розанов, по сути дела, открывал циклическую логику истории. В историю уходил лишь петербургский период истории, как и созданная в этот период культура, которую воскрешал Серебряный век, ощущая ее окончательное исчезновение. Однако эпоха Серебряного века не поддается даже и этой логике.
1.14. Культура Серебряного века; эпоха духовного подъема или упадка?
Свойственная рубежу XIX–XX веков исключительная переходность, казалось бы, должна быть прелюдией чего-то совершенно нового (а большевики, обращаясь к теории Маркса, активно расшифровывали это «что-то»), в реальности обернулась историческим регрессом, происходящим, прежде всего, на психологическом уровне и являющимся следствием «восстания масс». Однако психология масс стала основой возникновения и новой, более жесткой государственности, (а зависимость эту проницательно сформулировал Х. Ортега-и-Гассет), и беспрецедентного регресса в средние века, от чего пытались уйти на протяжении всего Нового времени и ради чего, собственно, и был вызван к жизни модерн в его философском смысле.
Ощущая возвращение в культуре к Средневековью, Г. Федотов, по сути дела, приблизился к пониманию циклического принципа развертывания истории и интуитивно его открыл. Такова же и логика истории, которую исповедовал в своих разных работах Н. Бердяев. Но в одной из работ философа идея возвращающегося в XX веке в истории России Средневековья была вынесена в название [39]. Однако может быть, если Серебряный век, действительно, называть «Ренессансом», то иметь в виду следует не этот реальный ренессанс рубежа XIX–XX веков, а тот, что должен был наступить лишь в будущем. Именно так представлял его и В. Брюсов.
Что же касается реального Ренессанса, то он, если следовать логике Э. Панофского, может быть, был лишь малым Ренессансом. Ведь согласно Э. Панофскому, таких малых ренессансов, предшествующих большому ренессансу XIV–XVI веков в истории Запада было несколько. Но, как известно опять же, согласно Э. Панофскому, малый ренессанс был не универсальным, а скорее маргинальным, поскольку возникал в узкой среде. В этом была уязвимость малого ренессанса, что в свое время произошло и с Серебряным веком.
Понятно, что в распадающейся империи оценка возникающих художественных течений не была единой. Она не была единой даже в среде художественной интеллигенции. Но современный исследователь уже способен вынести таким течениям более взвешенные оценки. Совсем не обязательно, чтобы они совпадали с оценками, что имели место у самых деятелей Серебряного века. С точки зрения сегодняшнего дня следовало бы заново задаться вопросом, что имелось в виду, когда применительно к этому периоду употреблялось понятие «упадок», как, впрочем, и слово «подъем». Имело ли место в этой эпохе то негативное, что дает основание связывать этот период с упадком? Были ли какие-то уязвимые стороны искусства этого времени?
Конечно, данные М. Горьким с трибуны Первого съезда советских писателей отрицательные оценки несправедливы. Но диагностировал же Н. Бердяев в вышедшей в 1923 году в Берлине статье, что мир находится в состоянии духовного упадка, а не духовного подъема [35, с. 23]. Эту психологию упадка в своей эпохе ощущает Д. Мережковский, сближая ее с упадочной эпохой позднего эллинизма, эпохой Флавия Клавдия Юлиана, о котором написан его роман «Юлиан Отступник». «Да, они похожи на нас, эти странные, одинокие и утонченные эстеты, риторы, софисты, гностики IV века, – пишет Д. Мережковский. – Они так же, как мы, люди глубоко раздвоенные, люди прошлого и будущего – только не настоящего, дерзновенные в мыслях, робкие в действиях, среди мрака и холода носящие в себе зародыши новой жизни, стоящие на рубеже старого и нового, люди упадка и вместе с тем Возрождения, или, говоря современным, общепринятым и все-таки почти никому непонятным языком, это – в одно и то же время и декаденты, т. е. гибнущие, доводящие утонченность дряхлого мира до болезни, до безумия, до безвкусия, и символисты, т. е. возрождающиеся, предрекающие знамениями и образами то, что еще нельзя сказать словами, потому что оно еще не наступило, а только веет и чуется, – пришествие нового мира» [208, с. 203].
Так, с помощью параллели с поздней античностью Д. Мережковский набрасывает портрет «одиноких и утонченных эстетов», т. е. декадентов начала XX века. Но разве в этом заключалась новизна исторической ситуации? Как многие констатируют, одиночество в истории России поэтов сопровождало всегда. «Поэты в России, – пишет В. Брюсов, – всегда должны были держаться, как горсть чужеземцев в неприятельской стране, настороже, под ружьем. Их едва терпели, и со всех сторон они могли ожидать вражеского нападения» [62, т. 6, с. 292].
Этот же маргинализм творцов в русской культуре фиксирует и Д. Мережковский. «Нет, никогда еще в продолжение целого столетия русские писатели не пребывали единодушно вместе. Священный огонь народного сознания, тот разделяющийся пламенный язык, о котором сказано в «Деяниях», ищет избранников, даже на одно мгновение вспыхивает, но тотчас же потухает. Русская жизнь не бережет его. Все эти эфемерные кружки были слишком непрочны, чтобы в них произошло то великое историческое чудо, которое можно назвать сошествием народного духа на литературу. По-видимому, русский писатель примирился со своею участью: до сих пор он живет и умирает в полном одиночестве» [207, с. 144].
То же самое, что мы говорим о поэтах, характерно и для философов. Так, касаясь восприятия в России философии В. Соловьева, С. Маковский вынужден был признать следующее: «Широким признанием ни в «правых», ни в «левых» кругах он не пользовался. С одной стороны, был он слишком независим и блестящ для общества, привыкшего думать «по трафарету», с другой – было действительно что-то в его умозрительной сложности, мешавшее ясному его пониманию» [190, с. 69].
Однако если иметь в виду символизм, то его возникновение свидетельствует о постепенно формирующемся единстве группы поэтов. Правда, какое-то время такая группа поэтов представляет еще андеграунд, подполье культуры. Вот фиксация этого состояния А. Белым. «В конце прошлого века сидим «мы» в подполье; в начале столетия выползаем на свет; завязываются знакомства, общение с подпольщиками; о которых вчера еще и не подозревали мы, что таились они где-то рядом; а мы их не видели; новое общение обрастает каждого из нас; появляются квартирки, кружочки, к которым ведут протоптанные стези, – одинокие тропки среди сугробов непонимания; у каждого из непонятых оказывается редкое местечко, где его понимают; и каждый, убегая от вчерашнего домашнего, но уже чужого очага, развивает с особой интимностью культ нового очага…» [23, с. 36].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: