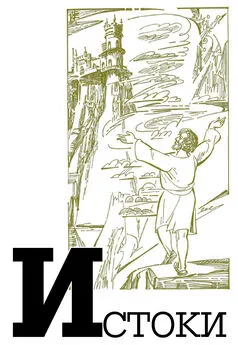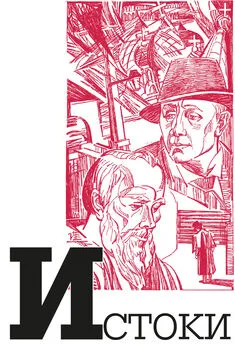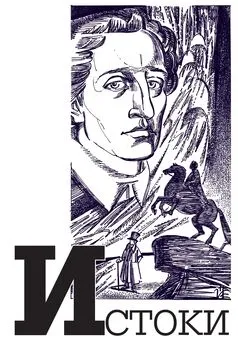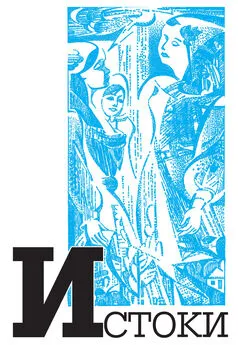Array Коллектив авторов - Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология
- Название:Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Индрик
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:5-91674-122-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология краткое содержание
произведения искусства, как переживание невербализуемого пространства смыслов. Анализируя природу ауры искусства и размышляя над угрозой ее утраты в современной культуре, авторы книги показывают, что вся история искусства являет собой равновеликую потребность человека как в структуре, в опорных точках бытия, так и в бесструктурном, трансцендентном, вечно ускользающем, то есть ауратическом. Выдвигаются концепции эволюции эстетических свойств ауры на протяжении истории искусства в процессе модификации художественных форм. Рассматриваются такие формы ауратичности как
произведений искусства. Исследуются нетрадиционные профили ауратического в современном художественном творчестве. На материале зарубежного и отечественного изобразительного искусства, архитектуры, литературы, музыки, кино, фотоискусства.
Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Можно предположить, что добавленные параметры Дали, если оставить в стороне проблему их числового измерения, куда ближе к понятию ауры, нежели рациональные оценочные решетки Роже де Пиля. Вдохновение, оригинальность, гениальность, тайна – похоже, что совокупность этих свойств и порождает то неуловимое, интуитивно ощущаемое и остро переживаемое телесно-духовное свечение, которому дал имя Вальтер Беньямин в своей ныне знаменитой работе. Во всяком случае, так кажется – по причинам, которые нетрудно разглядеть.
Думал ли иначе сам изобретатель термина? Во введении к статье, имея в виду предлагаемые в ней тезисы, он отмечал, что они, эти тезисы, «… отбрасывают ряд устаревших понятий, таких как творчество и гениальность, вечная ценность и таинство, – неконтролируемое использование которых (а в настоящее время контроль осуществим с трудом) ведет к интерпретации фактов в фашистском духе. Вводимые далее в теорию искусства новые понятия отличаются от более привычных тем, что использовать их для фашистских целей совершенно невозможно» [16] Бенъямин Вальтер. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996. С. 16.
.
Вряд ли Беньямин был знаком с оценочными критериями Дали. Но отверг он именно эти и им подобные, предложив взамен «новые понятия». С исходной декларацией автора полагалось бы считаться. Действительно, такие новые понятия в статье есть. Заменяя категории, восходящие к романтическим интерпретациям художественного, они должны были стать современным инструментом независимого, объективного исследования, не признающего ни вечных ценностей, ни мистических озарений и основанного на трезвом историзме – как и полагается марксистскому анализу. Но наиболее прославленное новое понятие, введенное впервые Беньямином – понятие ауры – представляет в этом смысле серьезные трудности. Принадлежит ли оно к числу «новых понятий»? Или это всего лишь другое имя, синтезирующее и замещающее понятия, которые Беньямин счел устаревшими? Так или иначе, но аура в позднейших истолкованиях оказалась где-то рядом с гениальностью, вечной ценностью и таинством.
Одним из первых читателей статьи Беньямина был Теодор Адорно: он получил машинописную копию немецкого текста еще до первой публикации статьи, которая, как известно, увидела свет во французском переводе. Адорно быстро отозвался подробным письмом, где сразу было оговорено, что это не тот разбор, которого заслуживает исследование Беньямина, и выражена надежда на последующие обсуждения во время встречи [17] Беньямин отправил текст из Парижа в Лондон 27.02.1936 г. Ответное письмо датировано 18-м марта. См.: Adorno T. W. Briefe und Briefwechsel. Band I. Theodor Adorno, Walter Benjamin. Briefwechsel 1928–1940. Herausgegeben von Henri Lotz. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1994, S. 165,168. (Здесь и далее пер. с нем. мой. – Б. Б.)
. Такие обсуждения, без сомнения, имели место. Тем не менее, первый развернутый отклик блистательного мыслителя, друга и единомышленника автора был в письме, и он заслуживает внимания.
Замечу сразу, что Адорно не говорит об ауре специально, но принимает новорожденное понятие без обсуждения, почтительно заметив, что прибегает к «новой терминологии». Адорно прежде всего говорит о том, что возбудило его страстный интерес и полное приятие – это «диалектическая конструкция», изображающая «отношения между мифом и историей», а именно – диалектическое саморазложение мифа, которое увидено как «расколдование [Entzauberung] искусства» [18] Ibid. S. 168.
. И именно в этой связи у Адорно появляются возражения. Он находит, что Беньямин – скорее неумышленно – переносит понятие магической ауры на «автономное произведение искусства» и прямо присваивает последнему контрреволюционную функцию [19] В ходе позднейшего редактирования письма для публикации Адорно заменил «контрреволюционную» на «реакционную» (см.: Ibid. S. 468). Так или иначе, но это замечание Адорно незаслуженно забыто, хотя оно недвусмысленно и точно указывает на ход мысли Беньямина.
. Отдавая себе отчет в том, что «магический элемент» сохраняется в буржуазном произведении искусства, Адорно считает, что «сердцевина [die Mitte] автономного произведения сама по себе не принадлежит к мифологическому измерению», но будучи по существу диалектической, «соединяет в себе магический элемент со знаком свободы» [20] Ibid. S. 169.
.
«Я не хотел бы защищать автономию произведения искусства как особую привилегию, и я согласен с Вами, что ауратический элемент произведения искусства находится в ситуации исчезновения, и это, кстати, не просто за счет технической репродуцируемости, но также в результате действия его собственных, „автономных“ формальных законов… Но автономия произведения искусства, и потому его материальная форма, не идентична заключенному в ней магическому элементу…» [21] Ibid. S. 171.
.
Интерпретация Адорно особенно значима, поскольку это не толкование «из будущего» – такими статья Беньямина обрастет сверх всякой меры – а чтение современника, мыслящего и читающего на одном с автором философском диалекте, или, если выражаться менее архаически – находящегося в общем с ним дискурсе. Впрочем, и в этом случае приходится устанавливать некоторые лексические соответствия. Адорно в своем разборе постоянно говорит о магии ауратического произведения. Беньямин о магии едва упоминает, да и то в связи с древнейшими, примарными стадиями функционирования изображений. Куда более общее понятие, которым оперирует Беньямин и которое должно быть эквивалентно магическому у Адорно, – понятие ритуала.
Это расхождение легко преодолимо. Оба говорят о культовой основе «ауратического искусства», сначала в прямом смысле, а затем – в метафорическом облачении «секулярного культа». В «секулярную» эпоху ритуализация художественных процессов и событий есть лишь внешняя форма эстетической религии. Если говорить о сокровенной природе ауратического, то «магия» Адорно будет, пожалуй, более уместна, нежели «ритуал» Беньямина.
Отклик Адорно ставит точки над i, обнажая пейоративную окраску каждого из определений – что «ритуального», что «магического». При этом в диалоге двух друзей отчетливо проступает единая фоновая конструкция, обусловленная марксистским настроением обоих.
Вот как выглядит максимально обобщенная историческая схема в изложении Беньямина. «Первоначальный способ помещения произведения искусства в традиционный контекст нашел выражение в культе; древнейшие произведения искусства возникли, как известно, чтобы служить ритуалу, сначала магическому, а затем религиозному. Решающим значением обладает то обстоятельство, что этот вызывающий ауру образ существования произведения искусства никогда полностью не освобождается от ритуальной функции произведения. Иными словами: уникальная ценность „подлинного“ произведения искусства основывается на ритуале, в котором оно находило свое изначальное и первое применение. Эта основа может быть многократно опосредована, однако и в самых профанных формах служения красоте она проглядывает как секуляризованный ритуал. Профанный культ служения прекрасному, возникший в эпоху Возрождения и просуществовавший три столетия, со всей очевидностью открыл, испытав по истечении этого срока первые серьезные потрясения, свои ритуальные основания. А именно, когда с появлением первого действительно революционного репродуцирующего средства, фотографии (одновременно с возникновением социализма), искусство начинает ощущать приближение кризиса, который столетие спустя становится совершенно очевидным, оно в качестве ответной реакции выдвигает учение о l'art pour Fart, представляющее собой теологию искусства. Из него затем вышла прямо-таки негативная теология в образе идеи „чистого“ искусства, отвергающей не только всякую социальную функцию, но и всякую зависимость от какой бы то ни было материальной основы».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: