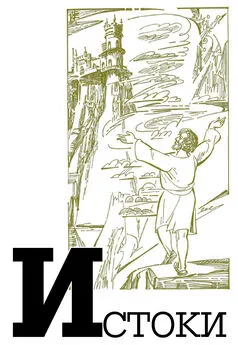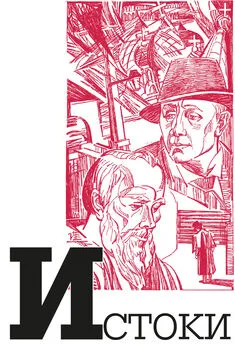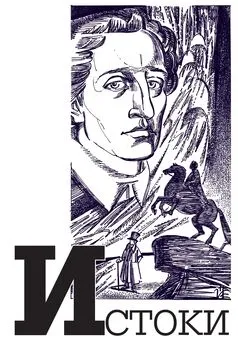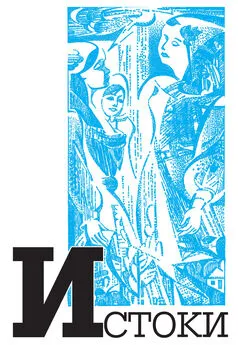Array Коллектив авторов - Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология
- Название:Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Индрик
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:5-91674-122-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология краткое содержание
произведения искусства, как переживание невербализуемого пространства смыслов. Анализируя природу ауры искусства и размышляя над угрозой ее утраты в современной культуре, авторы книги показывают, что вся история искусства являет собой равновеликую потребность человека как в структуре, в опорных точках бытия, так и в бесструктурном, трансцендентном, вечно ускользающем, то есть ауратическом. Выдвигаются концепции эволюции эстетических свойств ауры на протяжении истории искусства в процессе модификации художественных форм. Рассматриваются такие формы ауратичности как
произведений искусства. Исследуются нетрадиционные профили ауратического в современном художественном творчестве. На материале зарубежного и отечественного изобразительного искусства, архитектуры, литературы, музыки, кино, фотоискусства.
Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По тем или иным причинам он не стал революционером мысли и искусства. Он не преследовал специальную цель отбросить или поставить под сомнение культуру отцов, школу, дисциплину и канон. Он наследует определенную традицию. Это не жесткая традиция академизма, а более вольная классика в духе Тициана и Рубенса, которые были для Веласкеса ориентирами. В рамках этой традиции Веласкес – традиционалист. И притом свободный художник в полном смысле слова. В рамках школы, традиции и канона находил пространство свободного творчества и неотразимого впечатления живого света, воздуха, тепла, жизненной силы. Изучая его искусство в контексте эпохи, мы видим, что художник хорошо видит неблагополучия в жизни и психике своих персонажей и даже, пожалуй, сознает историческую драму власти в своей стране. Он показывает неприятную правду, опасные симптомы, а наш глаз радуется, разглядывая легкую и свободную живопись.
Чтобы уточнить постановку вопроса, напомню один реальный эпизод из истории искусства – на этот раз искусства русского. Репин писал картину «Не ждали» в 1888 году. Он долго с нею возился, переписывал один раз, два и три и оставался недоволен. Наконец, переписал в четвертый раз и почувствовал, что получилось. Художник с подъемом сообщил в письме к Третьякову, что «картина запела». Что он имел в виду? До определенного момента картина не «пела», а потом почему-то «запела». Притом заметим, что Репин был отлично подготовленным профессионалом, и наверняка он писал картину с самого начала вполне хорошо, умело, выразительно. Мастерство, умение – все было, а идейная программа картины была именно такая, как требовала прогрессивная общественность того времени. Все было сделано, как надо. И даже дух времени присутствовал. Но какого-то художественного флюида не было. При четвертом переписывании появился флюид.
Люди искусства давно знают про такие эффекты, а объяснения на сей счет обычно сводятся к одному. Создатели картин, книг, стихов или музыкальных пьес любили и любят ссылаться на то, что художник подключен к особым сферам. Его посещает некая высшая сила, его находки и открытия (звуки и слова, формы и краски) приходят неизвестно откуда, быть может, из духовного «тонкого измерения». Гений создает свое творение не благодаря какой-нибудь идее, не по причине своего общественного служения или своих убеждений (тех или иных), и даже не по причине своего мастерства. Он может создать шедевр даже вопреки своим идеям, рассуждениям, убеждениям, умениям. Излучение, аура произведения не связаны со «смыслами». Светится и поет НЕЧТО. В общем, мистика какая-то.
Как именно приходят озарения художника, сказать нельзя, ибо «тайна сия велика есть». Разумные соображения или правильные идеи, мастерство художника не дают нам разгадку этой догадки. Художник, быть может, хотел пошагать в общей шеренге и подтвердить великие истины своего времени и своей среды (не важно, какие именно). Хотел продемонстрировать те самые умения и качества, которые в его время и в его среде считались образцовыми. Одним словом, делал все, как положено. Но притом что-то случилось, и некая тайная и великая сила сказалась в шедевре помимо воли самого художника. Для ее обозначения имеется несколько слов, в том числе и замечательное слово «аура». Оно таинственное, многозначительное, обозначает некую имматериальную силу или энергию, которая посещает художника и отмечает собою его шедевр.
Не все художники знали это слово прежде, не все знакомы с ним сегодня, но фактически это слово либо его аналоги обладают особой значимостью для художников Нового времени. Мифология таинственного и необъяснимого вдохновения, необъяснимого явления неведомой стихии, обладает большой притягательной силой и для публики.
Нельзя было бы сказать, что наш разум совсем бессилен перед этой неведомой силой, этим удивительным флюидом. Мы более или менее представляем себе ту философскую традицию, ту духовную констелляцию, которая поддерживает и питает мифологию ауры. (Слово «мифология» в данном случае вовсе не означает «выдумка» или «иллюзия», а означает «эпистема» либо «архетип».) Напоминаю о главной теоретической «вилке» искусствоведения. При оценке художественных достоинств произведения мы опираемся в основном на две стратегические концепции. Одна восходит к Аристотелю, другая к Платону.
Первая (если угодно, аристотелевская) концепция гласит: художник становится большим мастером искусств, поскольку он идет за великой идеей и защищает высокие человеческие идеалы. Он изучает людей, он говорит правду, он знает свое ремесло, он воспитывает свой интеллект и потому обретает способность создать произведение, нужное и важное для людей. «Поэтика» Аристотеля рассказывает прежде всего о том, как делается текст, как работает слово, какие средства есть в распоряжении профессионального мастера словесности. Часто повторяемый тезис о том, что «талант – это труд», вырастает именно из этой теоретической основы [53].
Вторая (так сказать, платоновская) концепция говорит: существует некая неизвестная энергия или благодать. Она спускается с неведомых высот или из непостижимых разуму пределов. И эта неизвестная величина находится по ту сторону идей, человеческих ценностей, разума и морали. Она не зависит от ума, глупости, интеллекта или его отсутствия. Трудовые затраты, вкус, логика, опыт, старательность и мастерство – все это не влияет на приход или неприход озарения. (Это не означает, что найдутся такие недальновидные платоники, которые стали бы утверждать, будто безвкусный и тупой лентяй может создать прекрасное произведение искусства.) Как бы то ни было, разговор идет о своего роде чудесном озарении. Назвать это неведомое начало можно вдохновением, а если мы назовем его приходом ауры, то это тоже не будет ошибкой. Главное в том, что это явление невидимо, имматериально, всепроникающе. И без него не бывает настоящего искусства.
Если мы вспомним тексты об искусстве (трактаты, заметки, письма художников и другие материалы), дошедшие до нас из эпохи Ренессанса и последующих времен, то там мы найдем именно эти два рода рассуждений. Большое искусство получается тогда, когда художник старательно изучает натуру (природу) и следует примеру лучших учителей, мастеров искусств. Это один род рассуждений, условно говоря, «аристотелевский». Он характерен, например, для трактатов Дюрера, для суждений Караваджо, Рубенса, Рейнольдса и других [54]. О профессиональной компетентности, об умелости и мастерстве как обязательном условии искусства говорят очень многие из тех людей искусства, которые оставили нам свои соображения о своем деле.
Есть еще и другой род высказываний: для достижения результата нужен талант, озарение, послание «неведомо откуда». Это уже аргумент «платонического» типа. Завзятый платоник Микеланджело, если верить имеющимся у нас записям его высказываний, говорил, что «хорошая картина есть нечто иное, как отблеск совершенства божественного творения» [55]. К такому «ожиданию чуда» тяготеет Делакруа и питает слабость Бодлер. И разумеется, большая когорта символистов и авангардистов, отмеченных визионерством, не могла обойтись без идеи «тайного послания» и «спиритуального импульса».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: