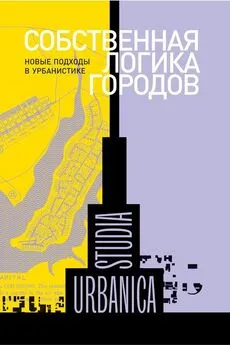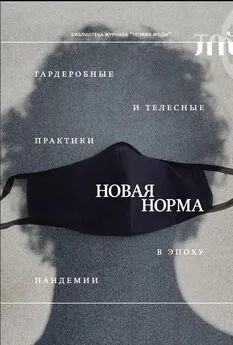Array Сборник статей - Мусульмане в новой имперской истории
- Название:Мусульмане в новой имперской истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Садра
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906859-53-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Сборник статей - Мусульмане в новой имперской истории краткое содержание
Мусульмане в новой имперской истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В целом движения младотурок, татарских «ислахчилер» (джадидов) и прочих подобных религиозных движений и сообществ, так или иначе влиявших на Туркестан, не вполне правомерно объединяемых под рубрикой «панисламизма» (в более современном звучании – «джадидизм»), никогда не представляли собой единого политического или религиозного феномена, функционируя скорее в рамках абстрактной и утопической идеи. Политический потенциал и значение «панисламизма» были сильно преувеличены, о чем писал еще В.В. Бартольд [252] В.В. Бартольд. Панисламизм // В.В. Бартольд. Сочинения. Т. VI. Москва, 1966. С. 402.
. Между прочим, брожение умов и недовольство политикой агонизирующей Российской империи было характерно не только для «мусульманских окраин», их разделяла и часть политической элиты в Санкт-Петербурге и Москве. Более активными и реально опасными угрозами для империи оказались угрозы со стороны народнических и социалистических движений, жертвами которых становились градоначальники, министры и даже император.
Тем не менее естественные «издержки» мировоззрения практических экспертов отнюдь не означали, что имперские, цивилизаторские, европоцентристские или даже славянофильские формы мышления исключали либерализм, гражданственность и известную долю толерантности. Символические категории того времени, очевидно, не должны мериться «сегодняшним аршином», тем более что в метрополии на рубеже веков действовали исследователи и политики, мыслившие о «присоединенных народах/иноверцах» в иных категориях и символах, более сложными и более современными императивами. Менялись и сами колониальные эксперты-«знатоки края». Выступая в роли «культуртрегеров», они и сами подвергались влиянию «иной культуры», стараясь использовать новые либеральные идеологии в своих отношениях с «туземцами».
Самый яркий пример подобной эволюции дает В.П. Наливкин, который после Первой русской революции и особенно в момент своего непосредственного вовлечения в революционную элиту в 1917 г. призывал пересмотреть принятые взгляды на «туземцев» и преодолеть отчуждение от них, хотя это удавалось ему с трудом. Взлеты и падения, разочарования и равнодушие привели Наливкина к трагическому самоубийству [253] С.Н. Абашин. В. П. Наливкин. С. 70, прим. 74.
. Другой пример схожей научной и личной судьбы русского ориенталиста дает А.Н. Вышнегорский, который после долгого пребывания в Туркестане и научной (экспедиционной) работы [254] Собранный им материал по теме «Обычное право у киргиз» составил основное содержание книги Н. Гродекова ( Н.И. Гродеков. Киргизы и кара-киргизы СырДарьинской области. Ташкент, 1899).
совершенно влился в «сартскую» (местную узбекскую, таджикскую) среду, внешне не отличаясь от них и восхищаясь «их культурой», особенно суфизмом. По впечатлениям В.В. Бартольда, встречавшегося с Вышнегорским, он сожалел, что собирал материал для ориенталиста Н. Гродекова [255] Возможно, поэтому Н. Гродеков не сделал А. Вышнегорского соавтором, хотя в книге ссылается на него.
, и осуждал русских, не «понимающих местной культуры». Однако затем и с ним произошла совершенно неожиданная (или, наоборот, вполне ожидаемая) метаморфоза: разочаровавшись в местном населении, он прекратил всякое общение с «сартами» и умер в нищете [256] В.В. Бартольд. История культурной жизни. С. 306–307.
.
К той же категории влияния колониальной культуры на экспертов-ориенталистов относятся случаи конфессиональной конвертации, т. е. принятия русскими специалистами, всерьез увлекшимися местной культурой, ислама. Это относится в первую очередь к учителям русско-туземных школ, среди которых встречались такие, кто принимал ислам и даже менял имя [257] Биографию одного из таких учителей русско-туземной школы Алексея/‘Али-Асгара Калинина (по сохранившимся дневникам в семейном архиве) изучила моя ученица Дилдора Хамидова ( D.S. Xamidova. Mustamlaka davrida Toshkent va Farg’onada Islom dinini qabul qilgan rus mutaxassislar. Ali Asg’ar Kalinin misolida / Magistrlik dissertatiya; Toshkent, 2005). Интересно, что этот же специалист упомянут у В.В. Бартольда как автор учебников для русско-туземных школ (В.В. Бартольд. История культурной жизни. С. 309).
. В силу ряда причин, прежде всего этноконфессионального характера, многие из них по прошествии некоторого времени возвращались в лоно православия, что часто сопровождалось психическими проблемами. Видимо, эти психологические травмы порождало пребывание в промежуточном пространстве между этносами и конфессиями и осуждение «общественного мнения» как русских в Туркестане, так и самих туркестанцев. Судьбы этих незаурядных личностей в определенном смысле символичны для значительной части «русских ориенталистов» и колониальных специалистов вообще – они разрывались между глубокими симпатиями к объектам своего изучения (обучения) и разочарованиями в них.
[258] Цитата из произведения Дукчи Ишана «‘Ибрат ал-Гафилин» (Наставление заблудшим) // Рукопись. Институт востоковедения АН РУз. № 1724. Л. 263.
Итак, Андижанское восстание, кроме всего прочего, ясно показало, что Туркестанский край лишь внешне выглядел «замиренным» и отношение к колонизаторам в среде простых верующих, составивших основной костяк восставших, оказалось далеко не дружественным. В первую очередь это касалось простолюдинов, так или иначе пострадавших от нарастающей капитализации промышленности и сельского хозяйства края. Между тем русские эксперты общались преимущественно с той частью интеллектуальной элиты, которая, в свою очередь, также старалась извлечь выгоды из общения с «русскими властителями» и экспертами. Социальную дистанцию, отделявшую «русского эксперта» от «простых мусульман», пытались преодолеть лишь немногие (например, В.П. Наливкин [259] Сам В. Наливкин изложил свои очень интересные наблюдения по этому поводу в упомянутой книге «Туземцы раньше и теперь» (с. 94-102 и дальше).
и А.Н. Вышнегорский).
Значительная часть местных интеллектуалов осудила Андижанское восстание и особенно его лидера Дукчи Ишана, создав критический цикл стихов (Дукчи Эьион хажвийаси), объединенных мотивом нелегитимности статуса «ишана из черни», посмевшего нарушить традицию и объявить газават [260] А. Эркинов. Андижанское восстание и его предводитель в оценках поэтов эпохи. С. 111–137.
. По сути, такие стихи и соответствующие ремарки в исторических сочинениях представителей интеллектуальной и религиозной элит местной общины отражали серьезное внутриконфессиональное взаимное отчуждение элиты и «черни». Между ними существовала социальная дистанция, которую элита не могла, а часто и не желала преодолеть, и это в равной мере относится к наиболее социально активным ее представителям – джадидам [261] Подробней см.: Б.М. Бабаджанов. Журнал “Haqiqat” как зеркало религиозного аспекта в идеологии джадидов. Факсимиле и исследования текста. Токио, 2007. С. 46–48.
. Возможно, поэтому местные интеллектуалы из реформаторов не могли иметь решающего влияния на простых верующих, больше прислушивавшихся к деревенскому мулле, а по сути – к консерваторам-традиционалистам, которые вписывались в систему привычных для простолюдинов традиционных символов и обычаев. Судя по житию Дукчи Ишана, его окружали именно такие простые верующие, которые видели в своем предводителе ( муршиде ) близкий и понятный образ «своего шейха», готового доступно и внятно объяснить причины их проблем [262] Манакиб-и Дукчи Ишан. Введение. С. 12–17.
.
Интервал:
Закладка: