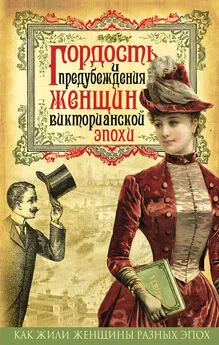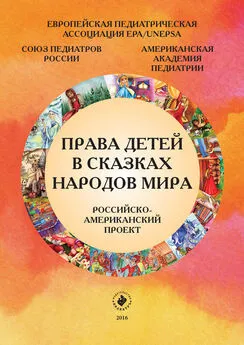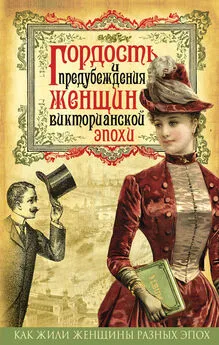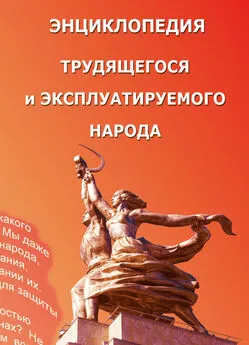Коллектив авторов - Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего Средневековья
- Название:Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего Средневековья
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Знак»
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9551-0300-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего Средневековья краткое содержание
Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных исследований Отделения историко-филологических наук РАН «История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте»
Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего Средневековья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Разумеется, нет оснований полагать, что эти взгляды были отражены в летописании с исчерпывающей полнотой; вероятно, сюжеты, находившиеся в особенно резком противоречии с воззрениями христианского общества, в эту подборку не попали. Вместе с тем, поскольку в них шла речь о князьях-язычниках и их языческих подданных, которые не могли служить примером для христианских правителей и их подданных христиан, не возникало необходимости какой-либо тенденциозной их переработки. Сопоставление рассказов о первых русских князьях в Начальном своде конца XI в. и в «Повестивременных лет» показывает, что предания изложены в обоих памятниках с разной степенью полноты, но не различаются по содержанию [78].
Центральной фигурой этих рассказов является киевский князь, стоящий во главе Древнерусского государства. Еще до принятия христианства сложилось представление об исключительном праве членов княжеского рода на власть над «Русской землей». В рассказе о занятии Олегом Киева приводятся его слова, обращенные к правившим там Аскольду и Диру: «Вы неста князя, ни роду княжя, нъ аз есмь князь» (НПЛ, с. 107; ПВЛ, с. 76). Такой взгляд был тесно связан с представлениями раннеклассовых обществ, для которых характерна убежденность в магической связи правящего рода (и каждого из его членов) с вверенной их власти землей. Как показывают скандинавские аналогии, такой правитель был одновременно и жрецом, который, принося жертвы богам, в силу особых, присущих ему свойств, добивался плодородия и процветания земли, обеспечивал ее жителям удачу в делах. По-видимому, еще к дохристианскому времени следует возводить и хорошо известный и другим славянским обществам раннего средневековья обряд наделения очередного правителя властью путем «посажения» его «на стол» – княжеский трон. К сожалению, ни описания самого обряда, ни сведения о местонахождении такого «стола» не сохранилось. Есть основания полагать, что длительное время и после крещения Руси этот обряд никак не был связан с церковью и лишь в конце XI в. «настолование» стало производиться в христианском храме [79].
Князь выступает в преданиях о событиях IX–X вв. как полководец, глава войска, организатор походов на далекие богатые страны, приносящих обильную добычу. Таковы полные энтузиазма рассказы о походе на Царьград Олега, который наложил дань на не способных дать ему отпор греков и «приде к Киеву, неся злато и паволоки, и овощи, и вина и великое узорочье» (НПЛ, с. 109; ПВЛ, с. 84). Неутомимым воителем выступает в этих преданиях и Святослав, привычный к тяготам походной жизни, «легъко ходя, аки пардус, воины многие творяше», смелый и неустрашимый на поле боя, равнодушный к «злату и паволокам», которые приносят побежденные греки, и радующийся только хорошему оружию (НПЛ, с. 117, 121–122; ПВЛ, с. 112, 118, 120). Он тоже, получив дань и многие дары от греков, возвратился «с похвалою великою» (НПЛ, с. 123; ПВЛ, с. 120). В таких полных восторга описаниях и характеристиках отразилось представление господствующей социальной группы древнерусского общества – дружины– об идеальном князе как военном вожде, побеждающем противника и приносящем богатую добычу.
Другая важная сторона деятельности князя, как она изображена в преданиях, это его усилия, направленные на подчинение восточнославянских племен, которые должны платить дань киевскому князю и ходить в походы по его приказу [80]. В преданиях откровенно говорится о том, что эти племена были подчинены Киеву с помощью военной силы (см. в тексте, восходящем к Начальному своду: Игорь «примучи Углече, възложи на ня дань» – НПЛ, с. 109). Не случайно смена князя на киевском столе сопровождалась отпадением отдельных племен, которые снова приходилось подчинять. Само обилие таких свидетельств показывает, что сфера отношений Киева с племенами привлекала к себе повышенное внимание среды, в которой эти предания возникали. Такой порядок отношений, при котором племена под угрозой военной силы должны были платить дань Киеву, воспринимался как естественный и нормальный, а неспособность племенных ополчений дать отпор дружине киевского князя вызывала насмешливое презрение (так, сообщение о том, как воевода Владимира Волчий Хвост разбил на реке Пшцане отпавших от Киева радимичей, сопровождается язвительной поговоркой «Пищаньци волъчиа хвоста бегают» – НПЛ, с. 131; ПВЛ, с. 132). Убийство князя Игоря древлянами во время сбора дани повлекло за собой жесточайшие кары, приведшие к разрушению «центра земли» – Искоростеня, истреблению местной верхушки, обращению части населения в рабство. Подобные кары расцениваются как справедливое возмездие, а покоренные племена выступают в этих рассказах лишь как объект эксплуатации, их жизнь повествователей вовсе не интересует.
Рядом с правителем в преданиях о первых князьях выступает дружина. С нею князь советуется, принимая важные решения (Игорь по совету дружины заключает мир с греками и отправляется собирать дань с древлян; Святослав, ссылаясь на мнение дружины, отказывается принять христианство; со своими старшими дружинниками – «боярами», а затем и со всей дружиной совещается Владимир, прежде чем принять решение о крещении – НПЛ, с. 109, 110, 116, 148–149; ПВЛ, с. 104, 112, 152, 154).
Таким образом, в преданиях деятельность князя находит свое выражение прежде всего в походах на соседние страны, покорении окрестных племен и сборе с них дани, а также в совещаниях с дружиной при принятии решений. Так как и военная добыча, захваченная в походах, и собранная дань расходовались на содержание дружины, то можно сделать вывод, что эти предания сложились главным образом в дружинной среде и отражают ее взгляд на характер общественного устройства и роль княжеской власти.
Поскольку дружина была как господствующей социальной группой, так и главной военной силой и административным аппаратом нарождающегося государства [81]и иной опоры в обществе княжеская власть не имела, то стабильность общественного порядка зависела от прочности связи между князем и дружинниками. Разумеется, связь эта покоилась на устойчивых общих интересах, что было ясно и для современников. В рассказе об убийстве Игоря, предлагая князю собрать дань с древлян, дружинники, обращаясь к нему, говорят: «Поиди, княже с нами в дань, да и ты добудеши, и мы» (НПЛ, с. 110; ПВЛ, с. 104). Однако укрепление этой связи нуждалось и в идейной санкции, прославлении «верности» дружинника в противопоставлении ее вероломству. Этой цели служит один из последних рассказов о событиях языческого времени – сюжет о воеводе Блуде и дружиннике Варяжко. Блуд был воеводой киевского князя Ярополка, который предал своего господина и способствовал тому, что тот сначала утратил свой «стол», а затем был убит. Варяжко же выступает в рассказе как дружинник Ярополка, сохранивший ему верность и после смерти князя. Хотя во время записи рассказа на киевском «столе» сидел Владимир, в пользу которого действовал Блуд, вероломный воевода в нем осуждается и ему противопоставлен верный дружинник. Об этом ясно говорит последняя фраза рассказа: Варяжко нападал на Русскую землю с печенегами, мстя за смерть своего господина, и Владимир приложил большие усилия, чтобы его «привабить» (НПЛ, с. 126–127; ПВЛ, с. 126). Это лучше чем что-либо другое показывает, как высоко ценилась «верность». Характерно, что, хотя рассказ говорил о событиях, происходивших в языческие времена, и его герои были язычниками, это повествование, в отличие от других, подверглось обработке под пером христианина-летописца. Целью вставок, сделанных им в текст предания, было показать, как следует оценивать действия вероломного воеводы с новой, христианской точки зрения. «То суть неистовии, иже приемше от князя или господина своего честь и дары, ти мыслять о главе князя своего на погубление, горыпе суть бесов таковии» (ПВЛ, с. 124). Представление о том, что дружинник, принявший от князя «честь и дары», должен всегда верно служить, сложилось, конечно, еще в дохристианский период, когда возник и сам рассказ, который комментировал летописец. Книжник объясняет читателю, что и с христианской точки зрения это тягчайшее преступление – изменивший своему господину хуже, чем бес, – дьявол. Очевидно, что и с принятием древнерусским обществом христианской религии тема «верности» дружинника вовсе не утратила своей актуальности. Таким образом, главная линия в повествовании о событиях X в. связана с интересами дружины и отражает ее взгляд на мир. Особое внимание, уделяемое в этом рассказе событиям, происходившим в земле древлян, которая стала затем частью Киевской земли, позволяет предполагать вслед за А. Н. Насоновым [82], что здесь отразились прежде всего воззрения той части дружины, которая находилась с князем в Киеве и в чей круг интересов входили близкие к столице области.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: