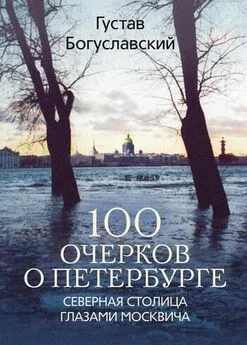Дмитрий Спивак - Северная столица. Метафизика Петербурга
- Название:Северная столица. Метафизика Петербурга
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Издательство Н-Л»
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:978-5-88407-057-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Спивак - Северная столица. Метафизика Петербурга краткое содержание
Северная столица. Метафизика Петербурга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Историки зодчества определенно говорят о родстве нашего «северного модерна» с поисками архитекторов Финляндии и скандинавских стран (Кириков 1987:113–115, 142–143). Действительно, будучи в центре Гельсингфорса, нам нужно только повернуть по направлению к зданию Национального музея (1910) на проспекте Маннергейма, чтобы уже издали заметить все те же знакомые петербуржцу приметы – грубооколотый гранит, деформированные проемы, стилизованный растительный орнамент, медведей – и мудрых лесных птиц. Недооценивать значение этого стиля, равно как и отрицать возможность его возрождения в будущих проектах петербургских зодчих было бы совсем неосторожно. Уж если строить на нашей болотистой почве, так в этом духе – а потом удобно устраиваться в новом доме, у камина и с томиком «Калевалы» – или пожалуй, «северных сборников „Фиорды“…»
Расширять наш кругозор в этом направлении можно еще долго – пока не дойдем до бытовой культуры дореволюционного города. Слава богу, что у нас сложилась прочная традиция бытописательства, начатая прославленным сборником «Физиология Петербурга», вышедшим в 1844, и продолжающаяся с некоторыми перерывами вплоть до написанных в наши дни мемуаров Л.В.Успенского, Д.А.Засосова и В.И.Пызина, и многих других мемуаристов и краеведов.
Кто еще рассказал бы нам о любимых петербуржцами лиловато-коричневых кренделях с непременно припекшимися к нижней, светлой стороне угольками и соломинками? Они продавались во многочисленных финских булочных. Кто поведал бы нам о поездках на дачу, на Карельский перешеек поездами Финляндской железной дороги, с их деловитым финским персоналом, одетым в одинаковые голубые кепи? Откуда узнали бы мы о такой характерной примете петербургского рождества, как молчаливые «пригородные чухны», свозившие в сумерки, а то и ночью сотни елок к Гостиному двору, на Сенной рынок и едва ли не к каждой зеленной лавке?
«В окнах магазинов», – вспоминает бытописатель конца прошлого века А.А.Бахтиаров, – «выставлен пресловутый „старик с елкою“ – эмблема зимы: из гипса отлита согбенная фигура деда с седою бородою, с красным от мороза лицом, одетого в шубе и в лаптях (…) – Старика с елкою для вашей милости, не угодно ли? – Нос-то у него больно красный! – Это, сударь, от морозу!» (1994:193). Речь шла, конечно, о предке нашего Деда Мороза. Западноевропейская родословная его известна, но были и более близкие родичи. В окрестностях Петербурга едва ли не до наших дней пели о хозяине леса, седобородом Тапио. Вот как обращался к нему герой «Калевалы»: «Дед лесов седобородый, / Мох – твой плащ, а хвоя – шапка! (…) Серебром покрой ты сосны, / Ты рассыпь по елям злато, Опояшь ты сосны медью, / Серебром лесные сосны» (14:153–154, 159–162).
Что же тут говорить! Положительно, Рождество имело для жителя Петербурга финскую окраску, так же как и масленица, с традиционным катанием на финских извозчиках – «вейках». Многие приметы того времени нуждаются в подробном объяснении, в то время как читателю Блока или Андрея Белого, даже не коренному петербуржцу, а просто окончившему курс столичного университета и вернувшемуся потом к себе в провинцию, достаточно было легкого намека, чтобы припомнить облик города, и даже запахи, присущие ему… Да, в старом Петербурге накрепко срослись много народов, укладов и обычаев. Нарастал этот симбиоз не один десяток лет, а развален был очень быстро, в порядке революционного энтузиазма.
Прекращение петербургского периода российской истории совпало по времени с отделением Финляндии (а также Эстонии). Причинная связь здесь была, и самая прямая: о ней говорили уже во времена русских революционых демократов. «Для нас самостоятельность Финляндии становится такой же дорогою, внутреннею мыслью и целью, как для финнов коренное преображение России из петербургской в народную и федеративную», – без обиняков писал Н.П.Огарев (цит. по Э.Г.Карху 1979:274). По поводу этих слов можно иронизировать, но нельзя отрицать того, что в независимости Финляндии Огарев видел залог ее мирного соседства с Петербургом.
Воинственная петербургская империя XIX века имела мирную, практически, как сейчас говорят, прозрачную границу с Финляндией. Признавшее ее суверенитет советское правительство получило напряженный, болезненный рубеж в четверти часа полета от Ленинграда. Происхождение этого «парадокса XX века» заслуживает некоторого внимания. В годы Северной войны театр военных действий распространялся и на Финляндию. Видя ее стратегическое значение для Петербурга, Петр I не считал оккупацию страны неотложной задачей. «Хотя она (Финляндия) нам не нужна вовсе, удерживать ради причин главнейших: первое, было бы что при мире уступить», – писал царь своему генерал-адмиралу Ф.М.Апраксину, – «другое, ежели Бог допустит летом до Абова, то шведская шея легче гнуться станет» (цит. по: Корх 1990:74).
Письмо писано и принято к сведению в 1713 году. Бог до Абова допустил, а «шведская шея» действительно стала легче гнуться. Абовом у нас тогда называли главный город Финляндии Або, в шведском произношенни Обу, теперь больше известный под финским именем Турку. Находясь на крайнем юго-западе страны, он был ближе других к Стокгольму и в известном смысле слова «представлял» его – так же, как в следующем веке Гельсингфорс стал «финляндским дублером» Петербурга.
По Ништадтскому миру 1721 года, занятая территория Финляндии была возвращена шведам. По сути, им было дано грозное предупреждение, но особого действия оно не возымело: страну скорее эксплуатировали, чем развивали. В войну 1741–1743 годов российские войска загнали шведскую армию на территорию нынешнего Хельсинки, некоторых поубивали, а большинство взяли в плен. Императрица Елисавета Петровна издала манифест, где обещала финляндцам вольности. Это был хорошо рассчитанный шаг: все больше взглядов стало обращаться к Петербургу. По Абоскому мирному договору 1743 года, к России отошла еще полоса территории севернее Выборга.
После этой войны шведы принялись за строительство крепости Свеаборг на островах, прикрывающих Гельсингфорс со стороны залива. Работы были поставлены на широкую ногу: в непосредственной близости от границы России год за годом рос «северный Гибралтар», как тогда любили называть крепость (окрестные финны превратили Свеаборг в «Виапори»). Тем не менее собственно Гельсингфорс, то есть город, где под защитой крепостных пушек имели развиваться промышленность и торговля, рос крайне слабо. В 1760 году он состоял всего из четырех кварталов деревянной застройки, население которых не превышало двух тысяч человек (Курбатов 1985:14). Создавалось впечатление, что шведы не усвоили урока Ниеншанца. В следующей большой войне 1808–1809 годов они окончательно потеряли Финляндию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


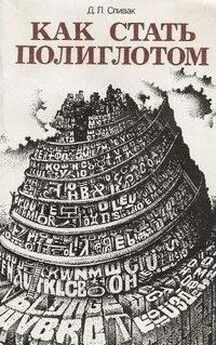
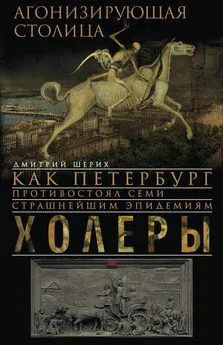



![Дмитрий Билик - Вторая столица [СИ]](/books/1088931/dmitrij-bilik-vtoraya-stolica-si.webp)