Матвей Любавский - Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно
- Название:Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Белорусская наука»
- Год:2012
- Город:Минск
- ISBN:978-985-08-1502-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Матвей Любавский - Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно краткое содержание
Рассчитана на профессиональных историков-исследователей, преподавателей, аспирантов, студентов, магистрантов, краеведов и всех, кто интересуется историей Великого Княжества Литовского, Беларуси, Литвы, Украины, Польши, России.
Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В эволюции общественно-политических взглядов историка можно наметить три этапа. Первый до буржуазно-демократической Революции 19051907 гг., когда его политические взгляды и теоретические представления, в основном, укладывались в русло либеральной идеологии. Второй (1905–1917 гг) был отмечен поправением М. К. Любавского, перемещением его на правый, «октябристский», фланг этой социальной группы русского общества.
Теоретические представления М. К. Любавского, его понимание русской истории, по существу, оставались в рамках взглядов учителя В. О. Ключевского, в русле либеральных традиций отечественной историографии.
Методологическое кредо историка кредо типичного позитивиста «государственника». Ученый сохранял верность ему со студенческих лет вплоть до конца 20-х годов. Оно гармонирует как с общественно-политическими взглядами, так и с психологией М. К. Любавского. Эклектизм в теории и компромисс в жизни, ставка на эмпиризм в исследованиях и «здравый смысл» в политических прогнозах и практике, эволюционизм и страх перед революциями с их «непредсказуемостью и хаосом» все это убеждения человека, ориентирующегося на приспособление к миру, а не на переделку его. Октябрьская революция развеяла миф, часто декларируемый ученым, о возможности существования «объективной», внепартийной исторической науки. Политические взгляды самого историка, мировоззрение, которое накладывало ощутимый отпечаток на его научное творчество, были тесно связаны с либеральной идеологией. Политика вторгалась в историю, направляя перо ученого в сторону той тенденциозности, против которой он выступал на словах.
Изучение дооктябрьского периода жизни научного творчества М. К. Любавского позволяет сделать вывод об ученом как о представителе либерального направления российской историографии конца XIX начала XX в., того периода ее существования, когда оппозиционность буржуазии по отношению к царизму быстро «полиняла», а ее консервативные настроения выступили с особой отчетливостью.
Сформированное позитивистскими убеждениями восприятие русской истории (изучение которой, как считал историк, «имеет не только научный интерес, а важно для понимания и оценки современного Русского государства»), оказало ему плохую услугу в оценке русской действительности 1905–1917 гг. Встретивший, как и большинство интеллектуальной элиты русской интеллигенции, Октябрь враждебно, М. К. Любавский не сразу и не до конца сумел сделать «переоценку ценностей».
Чувство патриотизма, стремление к сохранению страны как великой державы, присущие ученому, жизнеспособность нового строя в конечном итоге определили его поворот к советской действительности. В трудные и голодные для Отчизны годы он не эмигрировал за границу, а продолжал работать для блага России и ее культуры. В 20-е годы ученый занимал ряд ответственных постов в Центрархиве, где принимал деятельное участие в спасении культурного достояния республики под руководством В. В. Адоратского и В. Л. Невского, работал экспертом-консультантом Наркоминдела и ряда правительственных комиссий, преподавал в 1-м МГУ, вел исследования в Институте истории РАНИОН.
В гораздо меньшей степени в 20-е годы подвергались коррективам методологические позиции историка. Изучение его историко-географических исследований этих лет показывает, чти они в целом создавались на базе позитивистской методологии истории, хотя уже заметны попытки эволюции от установок государственной школы к экономическому материализму. Они отразились в понимании экономического фактора в истории как фактора ведущего в более широком, чем до 1917 г., понимании национального вопроса, большом внимании к вопросам вольнонародной колонизации и усилении критической струи в оценке колониальной политики царского правительства.
Тематика и содержание последних, неопубликованных работ М. К. Любавского, созданных в 30-е годы, позволяет говорить о том, что им был сделан новый, существенный шаг навстречу требованиям жизни. Историк не только старался освоить новую для него область экономической истории, но нередко с новых позиций, близких современной ему марксистской историографии, показать смысл, историческую роль явлений (например, башкирских восстаний XVII-XVIII вв.). Но наличие в этих исследованиях позитивистских методологических установок, безусловно, свидетельствует о том, что в своей методологической «перестройке» М. К. Любавский стоял только в начале пути.
Эклектичные в своей методологической основе, эти труды М. К. Любавского сильны своими конкретно-историческими и частными выводами, насыщенностью источниковым материалом и высокой культурой их источниковедческого анализа. Источниковедческое мастерство ученого, умелое применение сравнительно-исторического и ретроспективного методов позволяли достигать значительных успехов в решении и постановке ряда важных проблем истории феодальной России.
Несомненно, значительным явлением русской историографии начала XX в. можно признать курс лекций М. К. Любавского по исторической географии России. Автор курса попытался впервые в отечественной исторической науке создать сводный очерк исторической географии страны с точки зрения колонизации, реализовать схему одного из своих учителей В. О. Ключевского на конкретно-историческом материале. Отличный знаток первоисточников и тонкий их истолкователь, историк сделал здесь ряд важных для анализа политической истории Руси XI–XV вв. наблюдений (роль географического фактора в политической раздробленности X–XII вв., «демографическая» трактовка причин возвышения Москвы, татарские нашествия и география населения Руси в XIII–XVI вв. и др.), первый в русской историографии предпринял попытку изучения исторической географии России позднефеодального периода (XVIII–XIX вв.). Понимание ученым задач этой науки, сформулированное в курсе, дает возможность пересмотреть утвердившуюся в ряде работ советских историков точку зрения о том, что дореволюционное поколение исследователей, занимавшееся исторической географией, видело свои задачи лишь в локализации на карте политических событий, политических и племенных границ.
Плодотворное влияние исследований М. К. Любавского в области исторической географии в истории Великого Княжества Литовского, где его труды «составили эпоху в литовско-белорусской историографии» [471] Пичета В. И. Введение в русскую историю // Источники и историография. М., 1923. С. 187.
, сказалось в курсе лекций по «Древней русской истории». Этот курс интересен не только как попытка «подновления» схемы русской истори В. О. Ключевского за счет привлечения новых аргументированных версий, появившихся в русской историографии в начале XX в. (М. А. Дьяконов, А. Е. Пресняков, Н. П. Павлов-Сильванский, Н. А. Рожков и др.), но и как показатель умения М. К. Любавского дать ряд интересных трактовок некоторым узловым проблемам феодальной Руси (социально-политическая структура восточнославянского общества VIII–IX вв., эволюция форм государственности в Киевской Руси, татаро-монгольское нашествие на Русь, характерные особенности процесса централизации в Северо-Восточной Руси и др.). Все это не позволяет оценить курс как компилятивное сочинение. Изучение материала лекций не дает возможности считать правильным бытующее в историографии мнение о Любавском как норманисте и о положительной оценке им роли татарского ига в деле централизации Русского государства [472] Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1963. Т. 3. С. 306.
. Сам факт поддержки Любавским взглядов Н. П. Павлова-Сильванского о существовании феодализма в «удельной» Руси, несомненно, заслуживает положительной оценки современной историографии.
Интервал:
Закладка:




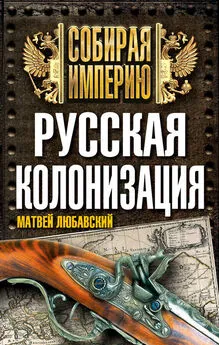


![Виталий Пенской - Полоцкая война [Очерки истории русско-литовского противостояния времен Ивана Грозного. 1562-1570] [litres]](/books/1076325/vitalij-penskoj-polockaya-vojna-ocherki-istorii-russko-litovskogo-protivostoyaniya-vremen-ivana-groznogo-1562-1570-litres.webp)


