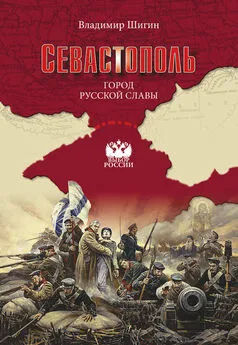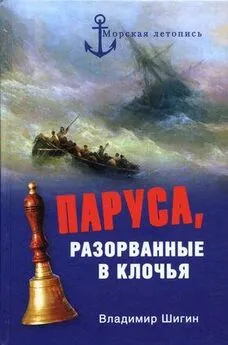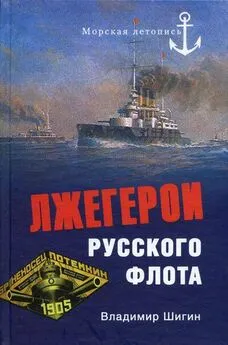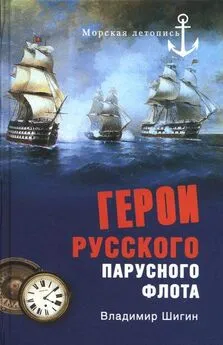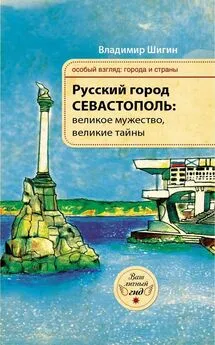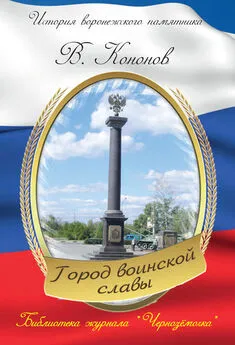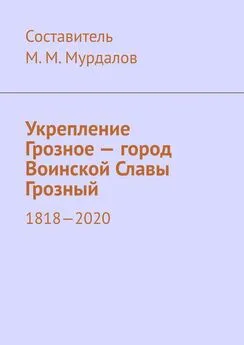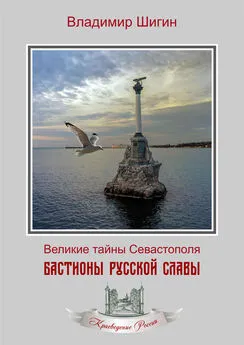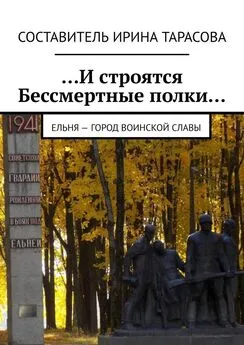Владимир Шигин - Севастополь. Город русской славы
- Название:Севастополь. Город русской славы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Вече»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4444-2170-3,978-5-4444-7990-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Шигин - Севастополь. Город русской славы краткое содержание
Книга российского писателя и журналиста В. Шигина рассказывает о неизвестных страницах истории Севастополя.
Севастополь. Город русской славы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На «балаклавской» версии настаивал и такой известный знаток античности, как академик К. М. Бэр. Но Балаклавой эту бухту назовут многим позднее. Древние греки звали ее иначе – Сюмболон-лимне, что означает бухта Символов, бухта Предзнаменований… Есть, впрочем, мнение, что и это название досталось грекам в «наследство» от тех народов, которые жили здесь ранее, может, от тех же этрусков или от тавров, отражавших на здешних берегах нападения многочисленных пиратов. Для нас небезынтересно и весьма неожиданное упоминание Гомером «многовратного града» на берегу бухты. Значит, существовал большой город тавров? Что это был за город? Имел ли он какое-то отношение к древнему Орсу?
Не меньше вопросов возникает и в связи с наименованием самой бухты. Какие символы и предзнаменования увековечили в названии бухты местные жители? Что необычного и необъяснимого могли увидеть они? Какие предначертания будущих судеб внушала им неповторимая Балаклавская бухта? Может, то было предсказанием нелегкого, но героического будущего их народа, а может, предначертанием особого места в истории великого будущего самой этой земли.
Если принимать версию академика К. М. Бэра о посещении Одиссеем Балаклавы, то сразу же возникает закономерный вопрос: куда же поплыл после столкновения с таврами царь Итаки со своими немногими оставшимися в живых спутниками? Внимательное ознакомление с поэмой сомнений не оставляет – путь последнего корабля уничтоженной таврами флотилии лежал на запад, ведь уже в следующей, одиннадцатой, песне Одиссей совершает проход между Сциллой и Харибдой, то есть форсирует Босфор.
Но в тексте «Одиссеи» значится и другое: последний корабль многохитростного царя Итаки, бежав от лестригонов, буквально в этот или на следующий день зашел в удобную необитаемую бухту. Далее Гомер пишет, что путешественники там двое суток отдыхали, то есть попросту приходили в себя от пережитого.
К берегу крутому пристав с кораблем, потаенно вошли мы
В тихую пристань: дорогу нам бог указал благосклонный.
На берег вышед, на нем мы остались два дня и две ночи,
В силах своих изнуренные, с тяжкой печалию сердца.
Третий нам день привела светозарнокудрявая Эос.
Взявши копье и двуострый свой меч опоясав, пошел я
С места, где был наш корабль, на утесистый берег, чтоб сведать,
Где мы? Не встречу ль людей?
Не послышится ль чей-нибудь голос?
Став на вершине утеса, я взором окинул окрестность.
Дым, от земли путеносной вдали восходящий, увидел…
Итак, «тихая пристань», дарованная богом в нескольких часах хорошего хода на веслах на запад от Балаклавы. Что еще известно о ней? Из дальнейшего текста становится ясно, что помимо крутых утесов, которыми окружена бухта, в глубине ее имеется «студеная река», болото, поросшее камышом, небольшой пляж, вдалеке виден лес. Рядом с речкой имеются и многочисленные пещеры. Именно там воины Одиссея будут впоследствии прятать награбленные в Трое и в иных местах сокровища. Что интересно, Гомер говорит о том, что мореплаватели высадились не на материк, а на некий остров Эя. Там же по его утверждению располагается порт и город, носящий такое же название – Эя. В этом городе жила некая правительница-жрица Цирцея. Значит ли это, что и он считал Крым островом? Как бы то ни было, но все вышеперечисленные данные указывают на одно: корабль Одиссея вошел в Ахтиарскую бухту, которую ахейцы обнаружили совершенно случайно и которая стала для них настоящим даром небес. Дойдя до самого устья бухты, они высадились у нынешнего Инкермана. Это может показаться невероятным, но Одиссей целый год жил на земле нынешнего Севастополя, бродил по инкерманским скалам и купался в Черной речке! Но ведь именно только там имеются все описанные в поэме признаки местности: утесы и пещеры, пляж и река, болото и лес. Далее рассказ Одиссея повествует о встрече с богиней Цирцеей. Мотивы рассказа о Цирцее достаточно явно перекликаются с мотивами истории пребывания неподалеку на мысе Феолент девы жрицы Ифигении. Тем более что и Одиссей, и Ифигения жили в одну историческую эпоху и даже были знакомы. Поэтому вполне возможно, что миф о Цирцее просто-напросто предшествовал мифу об Ифигении, причем в обоих случаях привязка по месту очевидна.
Но и это не все! Цирцея, согласно мифологии, являлась дочерью бога солнца Гелиоса и богини реки Персы. Вспомним здесь еще раз город Орс и Персея, легенду о Прометее… Ведь именно к здешним гераклейским скалам, к страдающему Прометею приплывал посочувствовать и сам Океан, и его дочери. Древнегреческие мифы (и это уже доказано неоднократно) отличаются редкой логичностью и последовательностью, так что пребывание Цирцеи именно здесь подтверждается и косвенно. Затем, согласно Гомеру, Цирцея превращает спутников Одиссея в свиней, но царь Итаки, обманув богиню, убеждает ее все же возвратить человеческий облик своим товарищам. Проведя без малого год в этих местах, мореплаватели наконец покидают эти места.
Однако отбытию корабля ахейцев предшествует еще одно, казалось бы, не очень уж важное, хотя и печальное событие – смерть одного из воинов Одиссея, Еврилаха. Подумаешь, смерть одного, когда в битве с таврами пали десятки! В одну из ночей Еврилах для чего-то взбирается спать на крышу дома, а заснув, падает с нее, «кость изломав позвоночную».
Одиссей почему-то отказал умершему товарищу даже в погребении, то есть совершил то, что греки не допускали даже по отношению к врагам. Итак, бросив тело погибшего соплавателя прямо на берегу, Одиссей отправляется в дальнейшее плавание.
А далее начинается самое интересное. Берега «тихой пристани» не отпускают Одиссея. Великий дух этих мест повелевает ему вернуться обратно, чтобы отдать последний долг павшему. Нигде более в «Одиссее» нет ничего подобного! О гибели мореплавателей там всегда говорится более чем лаконично. Почему, при столь явной неприязни к умершему Еврилаху, вдруг вновь такая внезапная перемена в отношении к его телу? В чем причина? Может, возроптали друзья Еврилаха или усовестился сам Одиссей, а может, и здесь сыграла свою роль особенная аура Гераклейской земли?
Как бы то ни было, но несчастный Еврилах был все же в конце концов предан земле со всей возможной торжественностью, как того требовал дух погибшего.
Бросивши труп мой со всеми моими доспехами в пламень,
Холм гробовой надо мною насыпьте близ моря седого;
В памятный знак же о гибели мужа для поздних потомков
В землю на холме моем то весло водрузите, которым
Некогда в жизни, ваш верный товарищ, я волны тревожил…
Увы, до «поздних потомков» место этого первого памятника на земле Гераклеи так и не сохранилось. Тысячелетия стерли с лица земли древний курган. Не осталось даже преданий о захоронении здесь ахейского мореплавателя и участника Троянской войны. У времени свои законы… И все же, может быть, не случайно был оставлен этот памятный знак именно здесь, на скалах будущего Херсонеса и будущего Севастополя? Ведь не секрет, что и Херсонес, и особенно Севастополь часто и вполне заслуженно сравнивали именно с древней Троей, той, что выдержала более чем десятилетнюю осаду лучших войск того времени. И как знать, может, именно от Трои и была передана незримая для людей эстафета этого необычайного упорства в обороне своего города? Может, символом этого упорства и стал навсегда затерянный ныне курган с останками одного из участников похода Одиссея? А значит, сбылось пророчество старика Гомера, и «поздние потомки» этой земли стали достойными восприемниками славы древних эллинов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: