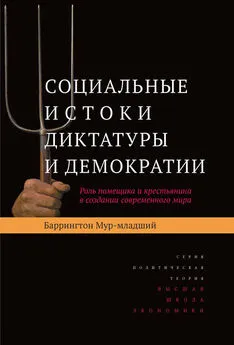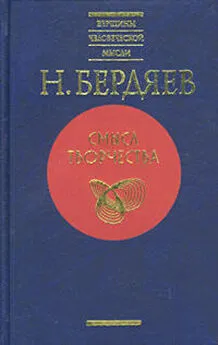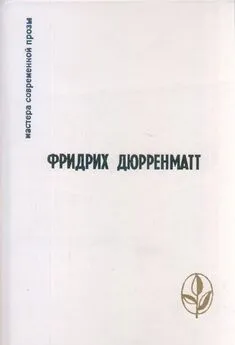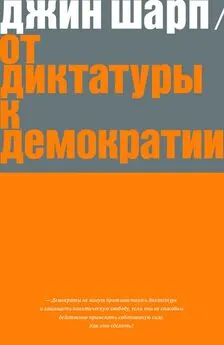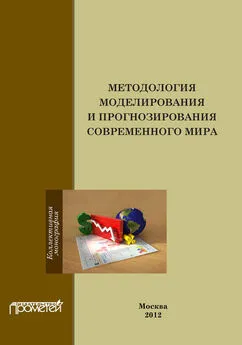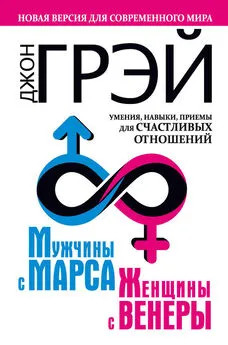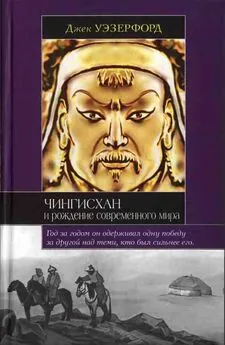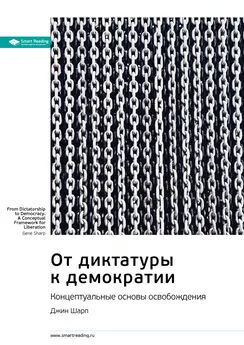Баррингтон Мур-младший - Социальные истоки диктатуры и демократии. Роль помещика и крестьянина в создании современного мира
- Название:Социальные истоки диктатуры и демократии. Роль помещика и крестьянина в создании современного мира
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Высшая школа экономики
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1004-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Баррингтон Мур-младший - Социальные истоки диктатуры и демократии. Роль помещика и крестьянина в создании современного мира краткое содержание
Книга адресована историкам, социологам, политологам, а также всем интересующимся проблемами политической, экономической и социальной модернизации.
Социальные истоки диктатуры и демократии. Роль помещика и крестьянина в создании современного мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В настоящий момент достаточно указать направление этих размышлений. Предположительно Франция могла бы последовать по пути консервативной модернизации на немецкий или японский манер. Но в этом случае по причинам, которые будут представлены постепенно в последующих разделах книги, вероятно, препятствия для демократии оказались бы даже бо́льшими. В любом случае монархия не проводила последовательной политики и не смогла себя сохранить. Аграрные проблемы сыграли в итоге важную роль.
4. Аристократический натиск и коллапс абсолютизма
Во второй половине XVIII в. французская деревня пережила момент сеньориальной реакции и кратковременное и ограниченное движение огораживания. Назвать первое из этих явлений феодальной реакцией было бы неверно. Как показано ранее в этой главе, происходившее было проникновением коммерческих и капиталистических практик в сельское хозяйство посредством феодальных методов. Этот процесс протекал в течение очень долгого времени, но стал более заметным во второй половине XVIII в. Одна из форм этого проникновения состояла в восстановлении феодальных прав и обязанностей там, где ими начали пренебрегать. Некоторые историки экономики видят причину этого в постоянно усиливавшейся нужде господина в деньгах [Sée, 1939, vol. 1, p. 189]. Сильное давление могло исходить от новых дворян, которые практиковали более коммерческое и менее патриархальное отношение к своему поместью, усовершенствовали управление, эксплуатировали старые феодальные права и вводили новые при малейшей возможности [Göhring, 1934, S. 71–73]. Экономической стороной этого процесса было стремление господина получить большую долю крестьянского урожая для последующей продажи. Получение контроля над крестьянской землей было второстепенным делом по отношению к получению урожая. Феодальные подати, выплачиваемые натурой, приносили лучший доход среди всех видов сельскохозяйственных прибылей отчасти потому, что они взимались прямо пропорционально собранному урожаю. [47] См.: [Labrousse, 1932, p. 378, 381, 410–411]. Полагаю, что Лабрусс прав относительно общего направления, но я скептически настроен по отношению к точности его статистических выкладок и не пытался суммировать его измерения. Институциональные изыскания Форстера соответствуют выводам Лабрусса.
Подчеркнуть чисто экономические аспекты значило бы, тем не менее, пропустить суть дела. Как постоянно указывается на страницах настоящей книги, феодальные порядки в сочетании с порядками абсолютной монархии образовывали политический механизм, с помощью которого землевладельческая аристократия Франции извлекала экономические выгоды из крестьянского труда. Без подобных политических механизмов экономическая система в деревне не смогла бы работать. В этом заключался конкретный смысл привилегии. Это также было существенной чертой, отличавшей французскую аристократию от высших землевладельческих классов в Англии, которые развили совершенно иные методы извлечения прибыли. Именно в этом пункте показывает свою ошибочность любая упрощенная версия марксизма, любая идея о том, что экономический базис автоматически определяет политическую надстройку. Политический механизм здесь играл решающую роль, и крестьяне во время революции проявили разумный политический инстинкт, когда стремились уничтожить эти механизмы и инструменты, а, как мы вскоре увидим, такой инстинкт они не всегда обнаруживали. Помогая необратимому уничтожению этих инструментов, они помогли разрушить старый порядок. Я настаиваю, что значение сеньориальной реакции состояло в том импульсе, который она придала этим политическим изменениям.
Движение огораживания было более открытой формой капиталистической трансформации в сельском хозяйстве. Оно начало приобретать силу во второй половине XVIII в., хотя ни в одном регионе не получило такого размаха, как в Англии, за исключением, возможно, Нормандии, где текстильная индустрия, особенно в области K°, развивалась в городе и деревне [Bloch, 1955–1956, vol. 1, p. 210, 212]. Французское движение огораживания в итоге оказалось частичным ответом на коммерческие веяния, как и в Англии. Но во Франции это движение, пока оно существовало, было в большей мере результатом правительственной политики и интеллектуальных дискуссий в салонах, чем в Англии, где оно инициировалось самими джентри. Физиократы смогли на время завладеть вниманием важных королевских чиновников, и недолгое время эта политика реализовывалась [Bloch, 1930, p. 350, 354–356, 360; Göhring, 1934, S. 76, 80]. Как только правительство натолкнулось на сопротивление, эта политика была свернута. Основной порыв утих к 1771 г. Непоследовательность была главной чертой старого режима до его конца [Bloch, 1955–1956, vol. 1, p. 226; 1930, p. 381]. Физиократический натиск продолжался дольше. Долгое время физиократы не осмеливались атаковать феодализм. Но в 1776 г., когда Тюрго был министром, его друг и секретарь Пьер-Франсуа Бонсерф предложил осуществить денежный выкуп феодальных повинностей, по крайней мере для следующего поколения [Göhring, 1934, S. 92].
Итак, капитализм проникал во французскую деревню через все возможные щели – в форме феодализма (как сеньориальная реакция), в форме атаки на феодализм (под лозунгами «прогресса» и «разума») в качестве официально поддерживаемого движения огораживания. Для более быстрого продвижения капитализма пришлось ждать революционных изменений и даже следующей эпохи. Некоторые права на общинные пастбища были отменены, например, только в 1889 г. [Bloch, 1930, p. 549–550].
Хотя ограниченное проникновение капитализма не смогло в XVIII в. преобразовать сельское хозяйство или уничтожить крестьянство, оно привело к резкой враждебности крестьянства к старому режиму. Крестьяне сопротивлялись увеличению феодальных податей и восстановлению старых повинностей ловкими юристами. Еще более важно то, что заигрывание правительства с огораживаниями обратило крестьянство против монархии. Во многих коммунальных cahiers 1789 г. энергично выражается требование реставрации прежнего порядка и отмены эдиктов об огораживаниях [Göhring, 1934, S. 82–84, 96; Lefebvre, 1954a, p. 255–257]. Следствием этого стала консолидация третьего сословия, более жесткая оппозиция старому режиму со стороны многих крестьян и части городского населения. Эти тенденции во многом объясняют, почему самое преуспевающее крестьянство в Европе стало главной силой революции.
Через парламенты высшие слои дворянства мантии поддерживали и усиливали сеньориальную реакцию. Прежде, как мы видели, служба в королевской бюрократии привлекала коммерсантов на сторону короля. Однако одним из последствий этого стало превращение небольшой, но влиятельной группы буржуа в энергичных защитников привилегий, понятых как частная собственность, закрепленная за индивидом. Здесь опять капиталистические способы мышления и действия просачивались сквозь поры прежнего порядка. В XVIII в. эти тенденции продолжились и усилились. Уже в 1715 г. появились признаки того, что новое судейское дворянство завоевало признание, что барьеры постепенно исчезают и что в итоге Франция вскоре увидит единый нобилитет, защищающий единый набор привилегий от посягательств короля и народа. К 1730 г. смешение было достаточно ощутимым [Ford, 1953, p. 199–201]. Поскольку старое дворянство было лишено институциональной базы, которая позволила бы эффективно соперничать с королем, и поскольку новая группа аристократов обладала такой базой в системе суверенных судов, старая страта была вынуждена признать социальный статус новой ради политических выгод. Так как стиль жизни обеих групп все больше сближался, помехи для их смешения все время уменьшались [Ibid., ch. 11, p. 150–151]. При Людовике XVI королевский судейский аппарат продолжал работать в качестве крупнейшего рекрутингового центра, который превращал богатых простолюдинов в часть истеблишмента, ставшего средоточием оппозиции к реформам. Из 943 парламентариев , рекрутированных в 1774–1789 гг. и оставшихся на службе в 1790 г., не менее 394 человек (42 %) – бывшие простолюдины , получившие дворянство благодаря своей новой должности. [48] См.: [Ford, 1953, p. 145–146], где автор рассматривает работу Жана Эгре, откуда и заимствует цифры.
Интервал:
Закладка: