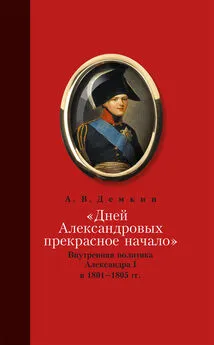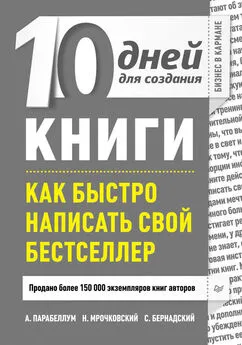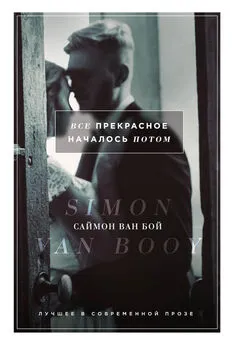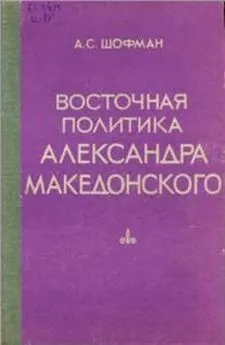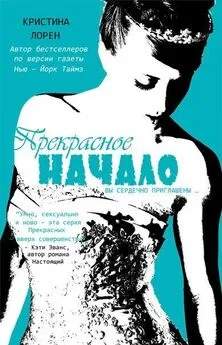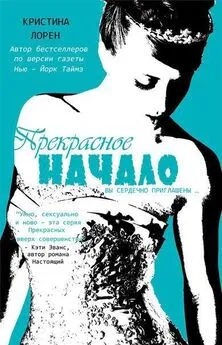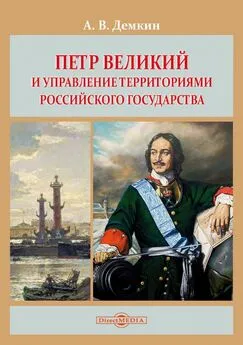Андрей Дёмкин - «Дней Александровых прекрасное начало…»: Внутренняя политика Александра I в 1801–1805 гг.
- Название:«Дней Александровых прекрасное начало…»: Внутренняя политика Александра I в 1801–1805 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Кучково поле
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9950-0280-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Дёмкин - «Дней Александровых прекрасное начало…»: Внутренняя политика Александра I в 1801–1805 гг. краткое содержание
«Дней Александровых прекрасное начало…»: Внутренняя политика Александра I в 1801–1805 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Довольно много распоряжений верховная власть отдала по вопросам торговли, откупов и промышленности. 10 апреля отменили положение 1800 г., по которому при вывозе за рубеж полотна определенная часть отдавалась «натурой» в пользу комиссариата (то есть для военного снабжения). Запрет на ввоз в Россию игральных карт последовал 26 апреля из-за действовавшего откупа в пользу воспитательного дома. Жителям «присоединенных от Польши губерний» 30 мая разрешалось вывозить за границу поташ через наиболее удобный для них пункт – Рожеямпольскую пограничную заставу. По-прежнему в пользу приказов общественного призрения было предписано 19 апреля взыскивать штрафы с откупщиков, подрядчиков и поставщиков вина и соли. Ввиду того, что откупщики «препятствовали» понижению цены на соль, что «отягощало» местное население, в мае не был продлен откуп «о продовольствии крымской солью» западных губерний. 3 июня Сенат опубликовал правила по производству торгов по откупам. 15 июня он же распорядился отдать повсеместно оброчные статьи на 12-летний откуп (если откупная сумма превышала 10 тысяч рублей, то договора представлялись в Сенат).
Предпринимателей и ремесленников 14 апреля освободили от обязанности присылать образцы своих изделий в Мануфактур-коллегию для клеймения. Открывателей «рудников» поощрял именной указ от 6 июня о выдаче награждения не только казенным мастеровым, но и всем, кто совершит подобное открытие. Сенатский указ от 23 июня предписывал не принимать к протесту и взысканию векселя, написанные не на гербовой, а на простой бумаге. Записавшихся в купечество или мещанство крестьян такой же указ от 30 июня велел высылать из сельских поселений (в соответствии с указами 1781–1782 гг.) [40].
Известно, что Александр I лишь дважды лично присутствовал на заседаниях Государственного совета по вопросам внутренней политики. Первый раз – 16 мая 1801 г., когда рассматривался проект указа о непродаже крепостных без земли (см. выше). Второй раз государь посетил заседание 27 мая: основной темой стало «устроение» Сибири. 9 июня вышел именной указ «Об обозрении Сибирского края». В нем ставилась задача «объять весь сибирский край», решить: соответствует времени разделение Сибири на три губернии (Пермскую, Тобольскую и Иркутскую) или нужно предложить иное территориальное деление? Далее – собрать все географические, статистические и прочие сведения о крае, описать положение, занятия и нравы местного населения. На этой основе составить записку, где должны содержаться «нужные предположения» по данной теме [41].
Вопросы культуры и образования также присутствовали в решениях Александра Павловича. «Чиновники» Московского университета именным указом от 7 апреля были освобождены от постойной повинности. Перемещенный павловским указом в Митаву университет 12 апреля вновь был возвращен на прежнее место – в Дерпт (здесь он находился «на средоточии» трех прибалтийских губерний: Рижской, Ревельской и Курляндской). В Митаве именным указом от 11 мая было предписано оставить гимназию и не переводить ее вместе с университетом в Дерпт. Президенту Академии наук барону Николаи именным указом от 15 мая поручалось составить регламент Академии и наладить чтение публичных лекций. Таким же образом 30 мая Вольному экономическому обществу было пожаловано место в Петербурге на Петровском острове. Одобренный императором сенатский указ от 14 июня разрешал помещать в печатных календарях гораздо больше сведений, чем это было в предыдущее царствование. Поскольку в некоторых губерниях на должностях директоров народных училищ состояли случайные люди, именной указ от 20 июня требовал назначать туда «сведующих в науках и известных своей нравственностью». Поддержкой начинания симбирского дворянства на ниве благотворительности выступил именной указ от 11 июня о разрешении открыть в Симбирске больницу [42].
В рассматриваемый период верховная власть сделала несколько распоряжений, касающихся почтового ведомства (20 июня – об отсылке «излишних» сумм в Государственный заемный банк; 17 апреля и 15 июня – о деньгах за корреспонденцию императорской фамилии; 22 мая – о почтовых конторах в прибалтийских губерниях); отметила (именной указ от 21 мая), что главным делом «опекунов и попечителей» малолетних и иных являются уплата долгов и составление соответствующих отчетов; предписала калужскому губернатору (23 апреля) не предавать суду «поврежденных в уме людей» по обвинению в убийстве [43], а также решала некоторые частные вопросы.
Внутриполитические шаги Александра I в марте – июне 1801 г. были связаны прежде всего со стремлением освободиться из-под опеки руководителей заговора 12 марта. Борьба по этому вопросу не предавалась особой огласке. Но такие решения, как отставка графа П. А. Палена, становились известны всем. Император стремился отменить непродуманные, нередко приносившие прямой вред решения отца. И часто приходилось возвращаться к установлениям Екатерины II. Еще не имея моральной поддержки друзей, государь пытался приступить к решению крестьянского вопроса и административным преобразованиям. В указах и манифестах этого времени видна линия на гуманизацию внутренней политики, проводилось снятие ряда запретов и ограничений в отношении повседневной жизни населения.
Глава третья
«Негласный комитет»
Собравшийся на свое первое заседание 24 июня 1801 г. в присутствии Александра I так называемый «Негласный комитет» не имел никакого официального статуса. Собственно говоря, это был кружок лиц, уже давно известных государю и близких ему по взглядам. Часто этих людей называли и называют «молодыми друзьями» Александра Павловича, прямо отмечая или намекая на их неопытность. Но все они, как мы уже писали, были старше двадцатитрехлетнего императора. Да и их возраст (Н. Н. Новосильцову – 40, графу В. П. Кочубею – 33, князю А. Чарторыйскому – 31, графу П. А. Строганову – 29 лет) по меркам того времени уже предполагал пору мужской зрелости. И неопытными людьми их назвать нельзя: на русской дипломатической службе уже успели побывать Кочубей и Чарторыйский, состоявший в екатерининские времена на военной службе Новосильцов имел чин подполковника, а Строганов в апреле 1801 г. был назначен обер-прокурором Сената. Все они были хорошо образованы и подолгу жили за границей. Понятно, почему большинство екатерининских вельмож отзывалось об александровских друзьях пренебрежительно. Последние отвечали им обвинениями в косности и непонимании современных задач.
Шестнадцатилетняя на тот момент княжна Р. С. Стурдза (в замужестве – графиня Эдлинг) считала, что это люди «без дарований и опытности». Ей вторил Ф. Ф. Вигель (которому в 1801 г. исполнилось пятнадцать лет): В. П. Кочубей умел искусно прятать свои недостатки, и вообще на нем природа отдыхала (Вигель имел в виду большие способности его дяди – канцлера А. А. Безбородко), А. Чарторыйский – «непримиримый враг России», П. А. Строганов – человек «ума самого посредственного», Н. Н. Новосильцов, хотя и «выше умом» названных, но считает, что «великий разврат не мешает быть великим человеком». Конечно, эти современники писали свои мемуары в зрелом возрасте и могли с кем-то сводить личные счеты или же о ком-то судить на основании мнений родственников и друзей. Но вот П. Г. Дивов обвинял Кочубея в честолюбии и мелочности и вкупе с Новосильцовым в полном незнании дел в своем отечестве. Княгиня Е. Р. Дашкова «с грустью» отмечала, что Александр I «окружил себя молодыми людьми», которые «небрежно» относились к людям пожилым и опытным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: