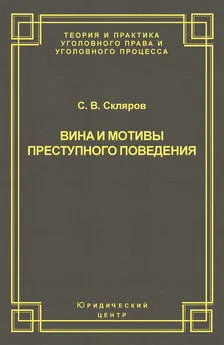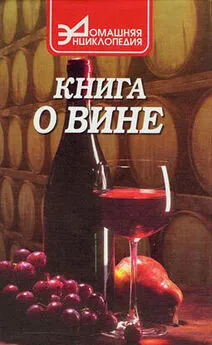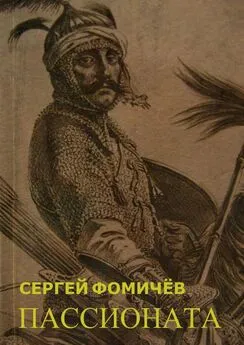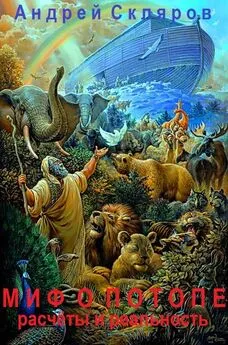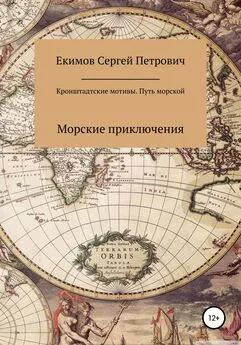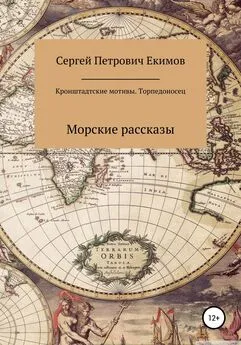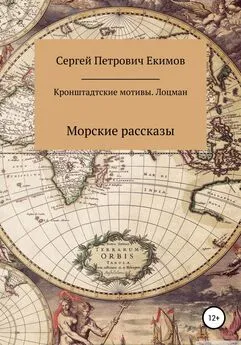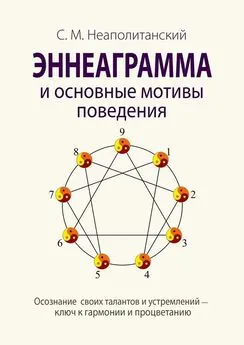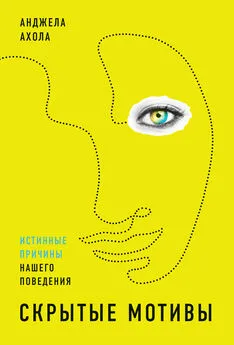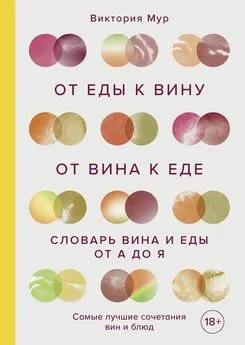Сергей Скляров - Вина и мотивы преступного поведения
- Название:Вина и мотивы преступного поведения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Юридический центр»
- Год:2004
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-94201-374-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Скляров - Вина и мотивы преступного поведения краткое содержание
Работа адресована научным работникам, юристам-практикам, а также преподавателям, аспирантам и студентам юридических вузов.
Вина и мотивы преступного поведения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Основное отличие умышленной формы вины от неосторожной, исходя из норм УК РФ, заключается, с одной стороны, в том, что при неосторожной форме вины частично отсутствует интеллектуальный момент: сознание лицом характера своих действий; с другой – в так называемом «волевом» моменте: при умысле лицо желает (прямой умысел), допускает или безразлично относится к последствиям своих действий (косвенный умысел), при неосторожности лицо без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение последствий своих действий (легкомыслие), либо волевой момент вообще отсутствует в формуле вины (небрежность).
В предыдущем параграфе настоящей работы уже отмечались неудачность законодательных формулировок умысла и неосторожности, выражающаяся в отсутствии четкой системы изложения форм вины, связанная с выделением в формах вины интеллектуального и волевого моментов, многочисленные дискуссионные вопросы и трудности, возникающие при практическом применении норм УК РФ. По сути, формулы волевого момента вины, изложенные в УК РФ, определяют степень осознания лицом характера своих действий и степень предвидения лицом общественно вредных последствий своих действий. Поэтому было предложено отказаться от волевого момента вины, и в пользу этого решения приведены соответствующие аргументы.
Необходимо отметить, что подобное решение при формулировании умышленной формы вины имело место в так называемой теории представления, сторонники которой утверждали, что для характеристики умысла достаточно установить, что лицо сознавало основные характеристики своих действий и представляло их возможные последствия. Подавляющее большинство советских криминалистов первой половины XX в. критично отнеслись к вышеназванной теории, называя ее «образчиком бесплодного формально-догматического метода буржуазной юриспруденции, стремящейся при помощи формально-юридических конструкций расширить сферу действий, признаваемых умышленными, ограничивая требования, предъявляемые к умыслу, одним только предвидением последствий и не требуя сочетания в умысле интеллектуального и волевого моментов» [30] См., например: Утевский Б. С. Указ. соч. С. 188–189.
.
Между тем сторонники теории предвидения не исключали волю из оснований правового упрека в виновности, [31] Там же.
а первичная теория деления умысла на прямой (dolus directus) и непрямой (dolus indirectus) отождествляла умышленность с сознательностью при непрямом умысле – «виновный сознавал, что делает, а потому и умышлял на сознанное». [32] См.: Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая: В 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 243–244.
Безусловно, воля всегда присутствует в сознательном поведении человека и проявляется в том, что лицо осознает преследуемую цель, возможность контроля за своими действиями, предвидит возможные последствия своих действий. Указание на волевое поведение лица прежде всего заложено в институте вменяемости. Можно утверждать, что действия вменяемого лица – это всегда волевые действия, при которых оно осознает характер своих действий и их возможный результат. Предпринятая в настоящем исследовании попытка обосновать возможность формулирования формы вины без выделения волевого момента в их дефинициях направлена не на отрицание присутствия у лица желания или иного отношения к последствиям своих действий (бездействия), а на преодоление, с одной стороны, бессистемности изложения форм вины в современном уголовном законодательстве, заключающейся в частичном или полном отсутствии интеллектуального и волевого моментов при изложении формул вины, с другой – известных трудностей, имеющих место при квалификации преступлений с формальными составами.
Конечно, в результате такого подхода часть преступлений действительно может перейти из разряда неосторожных в разряд умышленных, но, как показывает проведенное автором интервьюирование судей, следователей органов внутренних дел и прокуратуры, специалистов в области уголовного права, большинство респондентов полагают, что некоторые преступления, относимые УК РФ к категории неосторожных (ст. 143, 216, ч. 2 ст. 217, ст. 263, 264, 266268 и др.), в ряде случаев должны расцениваться как умышленные преступления, но квалифицировать содеянное по статьям, предусматривающим уголовную ответственность против личности, нецелесообразно.
Исходя из предлагаемой концепции вины, связанной с исключением волевого момента из формулы вины, необходимо провести разграничение между умыслом и неосторожностью по иным критериям.
Умысел с точки зрения этимологии этого слова представляет собой заранее обдуманное намерение, подготовку преступления с осознанием его последствий. [33] См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. М., 1999. С. 833.
Намерение – это предположение сделать что-нибудь, желание, замысел (намеренный – сделанный сознательно). [34] Там же. С. 38б.
Учитывая этимологическое значение употребляемых законодателем терминов, можно сделать единственно верный вывод: если лицо, совершая какие-либо действия, полностью осознает их цель, характер, предполагаемый результат и его возможные последствия, то оно действует умышленно. Таким образом, облекая данный вывод в соответствующую формулу, можно заключить, что лицо действует умышленно в том случае, если сознает характер своих действий (бездействия) и предвидит их возможные последствия.
Статья 25 УК РФ закрепляет правило, в соответствии с которым преступление признается совершенным умышленно, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия) и предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий.
Таким образом, из законодательного определения умысла прямо вытекает, что сознание лицом характера совершаемых им действий (бездействия) заключается в сознании их общественной опасности. Неудачность такой конструкции уже подчеркивалась в настоящей работе при определении понятия вины, так как:
– наделение общественной опасностью тех или иных действий напрямую зависит от законодателя, устанавливающего уголовно-правовой запрет, в то же время не все общественно опасные деяния признаны законодателем преступлениями, и не все преступления можно признать общественно опасными;
– большинство преступников при совершении уголовно-противоправных действий не осознают их общественную опасность, что подтверждено конкретными исследованиями;
– термин «общественная опасность», по сути, является антонимом термина «общественная безопасность», отсюда общественно опасное деяние всегда нарушает общественную безопасность, которая по смыслу УК РФ представляет собой самостоятельный объект преступления; принимая во внимание распределение преступлений по разделам и главам УК РФ, можно заключить, что деяние, не посягающее на общественную безопасность, не является по своей сути общественно опасным;
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: