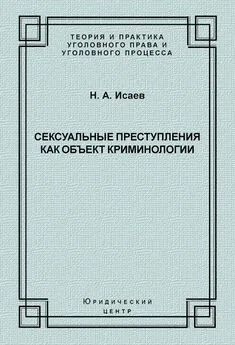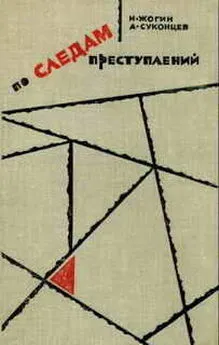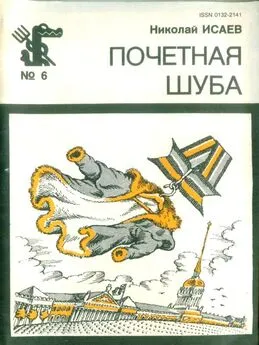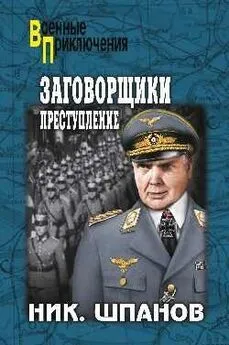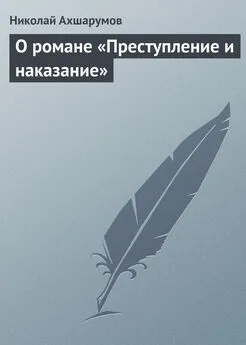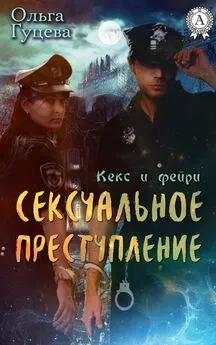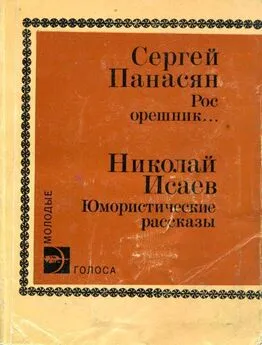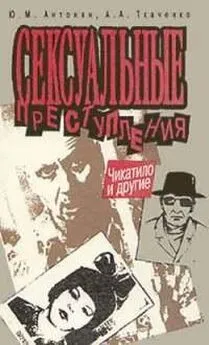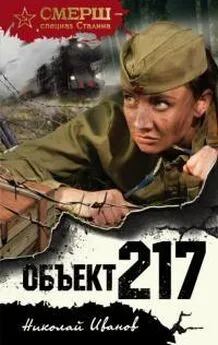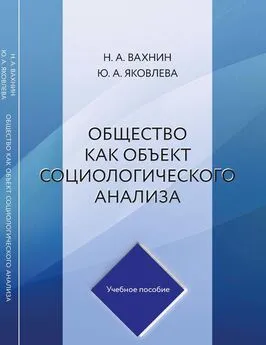Николай Исаев - Сексуальные преступления как объект криминологии
- Название:Сексуальные преступления как объект криминологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Юридический центр
- Год:2007
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-94201-521-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Исаев - Сексуальные преступления как объект криминологии краткое содержание
Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, криминологов, юридических психологов, судебных психиатров, а также всех интересующихся современными проблемами криминологических исследований.
Сексуальные преступления как объект криминологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Древняя Русь, по мнению H. М. Карамзина, получила свои «гражданские уставы» от скандинавов («главная цель общежития есть личная безопасность и неотъемлемость собственности» [269] Карамзин H. М. История государства Российского: В 12 т. / T. I–III. – Тула, Приокское книжное издательство, 1990. – С. 225.
). Характеризуя нравы славянских племен до принятия христианства, H. М. Карамзин писал: «Древние писатели хвалят целомудрие не только жен, но и мужей славянских. Требуя от невест доказательства их девственной непорочности, они считали за святую для себя обязанность быть верными супругами. Славянки не хотели переживать мужей и добровольно сжигались на костре с их трупами. Вдова живая бесчестила семейство». [270] Там же. – С. 84.
Цитируя Нестора, H. М. Карамзин также отмечает: «Поляне были образованнее других, кротки и тихи обычаем; стыдливость украшала их жен; брак издревле считался святой обязанностью между ними; мир и целомудрие господствовали между ними. Древляне же имели обычаи дикие, подобно зверям, с коими они жили среди лесов темных, питаясь всякою нечистотою; в распрях и ссорах убивали друг друга; не знали браков, основанных на взаимном согласии родителей и супругов, но уводили или похищали девиц. Северяне, радимичи и вятичи уподоблялись нравами древлянам; также не ведали ни целомудрия, ни союзов брачных; но молодые люди обоего пола сходились на игрища между селениями: женихи выбирали невест и без всяких обрядов соглашались жить с ними вместе; многоженство было у них в обыкновении». [271] Там же. – С. 85.
Устав Святого князя Владимира в отношении регуляции сексуального поведения преследует блуд, кровосмешение: «…аже кто с сестрой согрешит… аже свекор с снохою сблудит… аже кум с кумою сотворит блуд… аже кто с мачехой сблудит», многоженство: «…аще кто с двумя сестрами падется…». [272] Устав Святого князя Владимира, крестившего русскую землю, о церковных судах // Российское законодательство X–XX веков: В 9 т. / Под общ. ред. О. И. Чистякова. T. 1: Законодательство Древней Руси. – М., 1984. – С. 169–175.
Другим из наиболее древних исторических правовых документов является «Русская Правда», или «Законы Ярославовы». Этот исторический памятник правовой мысли аналогичен «варварским правдам» средневековой Европы, поскольку в нем прописаны светские нормы поведения, в основном относящиеся к уголовным правонарушениям, и отсутствуют религиозные и моральные догмы. Как отмечал H. М. Карамзин, в «Русской Правде» Ярослава нет упоминания о насилии над женщинами, так как последнее «казалось законодателю сомнительным и неясным в доказательствах». [273] Карамзин H. М. История государства Российского: В 12 т. / T. I–III. – Тула, Приокское книжное издательство, 1990.– С. 234.
Распространение насилия исходит из древних дохристианских брачных обрядов – «умыкание» или похищение невесты, которые упоминаются со времен летописца Нестора, [274] Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. Собр. М. Забылиным. – М., 1880. – С. 114–116.
на тех «бесовских игрищах умыкаху жены себе, с нею же кто свещашеся». [275] Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. T. 1. – М., Мысль, 1993. – С. 102.
Такая форма брака вызывала вражду между родами, которая в последующем трансформируется в «отступные» или «выкуп» невесты и далее в «прямую продажу невесты жениху ее родственниками по взаимному соглашению родни обеих сторон: акт насилия заменяется сделкой с обрядом». [276] Там же.
Таким образом, происходит процесс сближения родов, родственники жениха и невесты становятся свояками, отражая новый процесс образования родства и образование «большой» семьи. Большая родовая семья Древней Руси как социальный институт отражала специфику наследственного права. Как писал С. М. Соловьев, «связь между старшими и младшими членами рода чисто родовая, а не государственная; единство рода сохраняется тем, что когда умрет старший или великий князь, то достоинство его вместе с главным столом переходит не к старшему сыну его, но к старшему в целом роде княжеском». [277] Соловьев С. М. Чтения и рассказы по истории России. – М., Правда, 1989. – С. 26–27.
Насилие как форма поведения не выступает в обществе Древней Руси как противозаконное поведение, о чем свидетельствует не только «умыкание невесты», но и «поле» в практике судопроизводства, судебный поединок: «…окончательное решение предоставляется оружию, чей меч острее, тот и берет верх. Кто одолеет в бою, тот и выигрывает дело». [278] Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. T. 1. – М., Мысль, 1993. – С. 182.
Важной особенностью «Русской Правды», не отягощенной религиозными догмами, является отсутствие телесных наказаний: «…виновный платил или жизнию, или вольностию, или деньгами». Телесное насилие было исключено из системы наказаний, так как оно само носило институциональный характер.
Наряду с «Русской Правдой» существует «Церковный устав Ярославов», согласно которому регулируется семейный, религиозный и нравственный порядок. С инкорпорацией христианства происходят не только разделение власти религиозной и светской, но и различение и соотношение понятий греха и преступления. Всякое преступление – грех, но не всякий грех является преступлением. Наряду с государством как социальным институтом контроля поведения формируется и церковь как социальный институт, направленный на выработку самоконтроля поведения и создание персоналистической личности европейского типа. На комбинации понятий греха и преступления строится церковный Судебник Ярослава, начало создания которого было положено Уставом князя Владимира Киевского, его отца. «Грех – нравствен ная несправедливость или неправда, нарушение божественного закона; преступления – неправда противообщественная – нарушение закона человеческого», – так объясняет основные принципы составления Судебника Ярослава В. О. Ключевский. [279] Там же. – С. 222–223.
Соответственно дела, которые подсудны церкви, были подразделены на три категории: 1) дела только греховные, без элемента преступления: волхование, чародейство, браки в близких степенях родства (инцест), развод по взаимному соглашению супругов; 2) дела греховно-преступные: об «умыкании» девиц, об оскорблении женской чести словом или делом, о самовольном разводе мужа с женой по воле первого без вины последней, о нарушении супружеской верности; 3) дела «духовные», касающиеся лиц духовного звания.
При этом отмечался принцип «митрополиту в вине, а князь казнит», т. е. карает. Иными словами, наказывает светская власть, а понятие вины относится к области духовного и непосредственно связано с понятием греховности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: