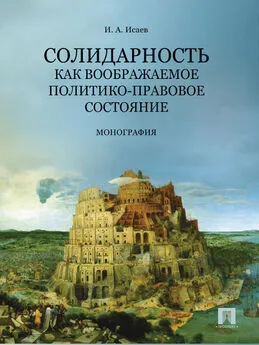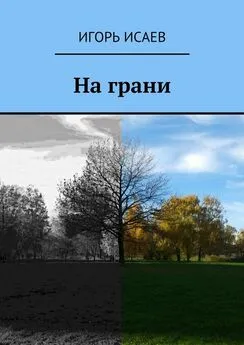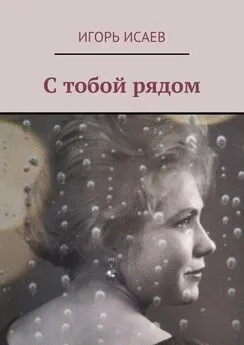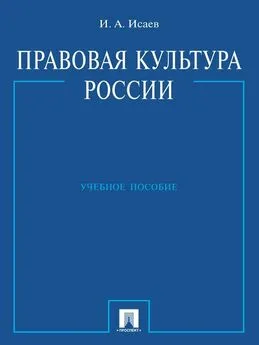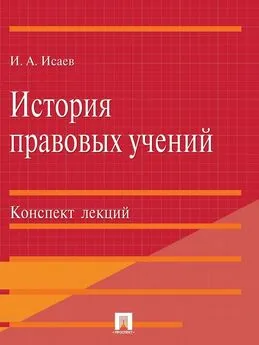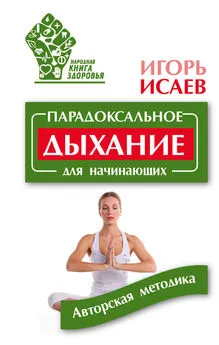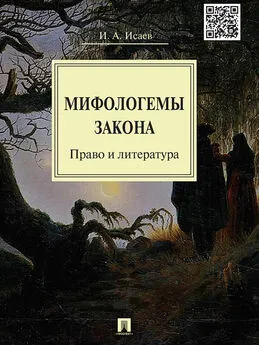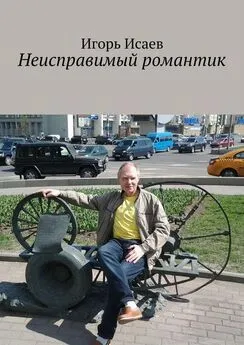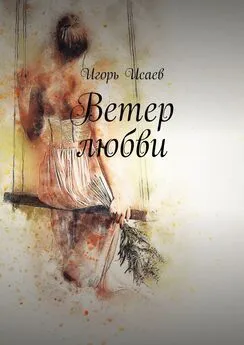Игорь Исаев - Солидарность как воображаемое политико-правовое состояние
- Название:Солидарность как воображаемое политико-правовое состояние
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Проспект (без drm)
- Год:2013
- ISBN:9785392137602
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Исаев - Солидарность как воображаемое политико-правовое состояние краткое содержание
Солидарность как воображаемое политико-правовое состояние - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Теория «общественного договора» пыталась объяснить факт создания и сохранения социального единства фактом заключения такого договора. Следуя за Гоббсом, Руссо не только формализует идею договора, но и мифологизирует ее, делает абсолютной. Договор заключается некими абстрактными и унифицированными в своей сущности людьми, которые почти поголовно стремятся к заключению соглашения между собой и с выбранными ими представителями. Ф. Теннис иронизирует по этому поводу: «Абстрактный человек, самый искусственный, самый правильный, самый рафинированный из всех людей – выдумка изобретательного ума, и на него следует смотреть как на призрак, неожиданно появившийся средь бела дня в размеренно текущей реальной жизни». Абстрактную природу философско-правового индивида выражает именно «общественный договор», причем выражает не реальную волю реальных людей, а только воображаемое согласие, построенное на предположении, что «любой разумный человек не может не хотеть этого договора». Но участник «общественного договора» также придуман, как исключительно разумное существо. С этой точки зрения не реальные люди, а абстрактная и упорядоченная схема, при этом многократно повторяемая, становится стороной в договоре. (Г. Радбрух ссылается на Гегеля, который говорил, что именно римляне выработали понятие «индивид без индивидуальности», и именно в Риме мы находим эту «свободную всеобщность или абстрактную свободу», которая, с одной стороны, ставит абстрактную власть государства, политику над конкретной индивидуальностью, а с другой – в противовес этой всеобщности формирует саму личность, объективную свободу «Я», которую следует отличать от индивидуальности) [8]. Философия «общественного договора» своим главным персонажем делает индивида, это философия человеческого «я», изолированного и самонадеянного, она избегает понятия «мы», и понятно, почему Руссо так опасался и предвидел угрозу со стороны нового субъекта, в качестве которого могли выступать коллективы, «народ» или государство. Эти же опасения, только в значительно более радикальной форме, высказывали позднее наиболее видные представители контрреволюции и романтизма: де Бональд, как и де Местр, считал власть «живым существом», которое ставит своей целью сохранить целостность своей субстанции – общества. Воля этого существа, которая называется законом, реализуется через его действия или «правительство». Человек существует только для общества, но общество создается только для самого себя, поэтому в обществе не существует прав, а есть только обязанности. (В одном из своих проектов Бональд представил план социально-политической организации, где права индивида были сведены к нулю. Он заявлял: «Я хочу создать философию социального человека, философию «Мы») [9]. Позже Гегель уточнил это положение, заявив, что государство и логически, и метафизически предшествует индивиду, поэтому и цель государства – только в нем самом. Таким образом, априорная цель всякого объединения – единство, и этот принцип не нуждается ни в конституирующем акте договора, ни в механическом и внешнем принуждении, которые могут выступать только в качестве актов вторичной формализации.
Трансперсональные связи внутри социума чреваты конфликтностью, и единственный способ примирить антагонизмы сообщества – «легализация внешней жизни души, т. е. создание общества». Именно оно, а не сообщество, условное и ненадежное, представляется способным создать особый инструментарий внешнего общения, необходимый набор конвенциально установленных жестов и действий. Тогда отношения между индивидами «приобретают характер игры, а лица, обращенные друг к другу, становятся масками». Маска здесь выполняет, как всегда, двойную функцию: скрывает индивидуальное «я» и в то же время оставляет индивиду право на признание «другого». Индивид перестает быть самим собой и становится «чем-то», человек тем самым усредняет и объективирует себя с помощью маски: он остается индивидом, не исчезая при этом и как личность, он становится одновременно «частным» и «публичным» лицом. Маска отграничивает личность от социальной среды, демонстрируя компромисс между «тяготением души к сокрытию и стремлением к откровению». Именно в «обществе» социальные роли становятся четко артикулированными и специализированными, в романтической и патриархальной «общности» индивид может одновременно исполнять множество ролей и иметь много личин.
В «Границах сообщества» Хельмут Плеснер рассматривал политическую реальность как специфическую форму преломления «отношений личностей, ирреально противостоящих друг другу в публичной жизни». В этих «игровых средствах такта и дипломатии» они дают выход своим притязаниям на близость и дисциплину, эгоизм и социальную обусловленность. Вся политика представляется здесь как состояние человеческой жизни, в которой она получает «свою конституцию не только внешним, юридическим образом», но и по своей основе и существу. Политика одновременно утверждает себя в мире и противопоставляет себя ему, это «человеческое априори», общество и политика «сущностно необходимо соразмерны человеческому существованию», и только в этом смысле следует понимать аристотелевское определение политического человека [10]. Человек выступает не только как часть природы. Чтобы быть человеком, он должен быть существом политическим и социальным, его большая близость к природе рождает в сообществе «романтические» ориентации, его большая политизация неизбежно ведет к механистичности, а на более высокой ступени организации – к юридизации его общностных и общественных связей. Х. Плеснер уловил даже в самой идее «сообщества» (и «общности») явный отголосок романтических представлений об органической, естественно-человеческой общности, «народном духе» и ощущении природы. В «обществе» прежняя индивидуальность замещается безличностными структурами, а система внешних и формальных отношений подавляет и растворяет внутренние, связанные с самостью индивидов связи. Плеснер полагал, что ограниченность идеи «сообщества» обусловлена уже тем, что она ориентирована исключительно на публичность, на фоне и в противовес которой она сама существует. Кроме того, идея «сообщества» оперирует двумя величинами, располагающимися в одной плоскости: кровными и вещными отношениями. Это никак не соответствует самим принципам существования «сообщества», ведь оно располагается «между небом и адом» и состоит из души и духа. Против идеи «сообщества» выступает и сама раздвоенность человеческой души, не терпящей требуемой «сообществом» абсолютной открытости и представимости и стремящейся укрыться в самой себе, сохранить собственную тайну и в то же время очень нуждающейся во внешней оценке [11]. (Ф. Теннис увидел также аналогию между отношениями сущностной и избирательной воли, с одной стороны, и отношением, существующим между правом владения и правом собственности, – с другой. Поскольку всякая «волевая форма есть детерминированная возможность и способность к деянию, постольку владение и имущество [право собственности. – И. И. ] суть детерминированные возможности и способности к потреблению вещей или к пользованию ими» [12]). Исключение из общности чисто органических элементов неизбежно сопровождается заменой их механическими составляющими, тогда целое действительно становится равным сумме составляющих его частей, а витальный динамизм единства, всегда остававшийся на уровне метафизического существования, вовсе исчезает и перводвигатель социальной материи скрывается во тьме.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: