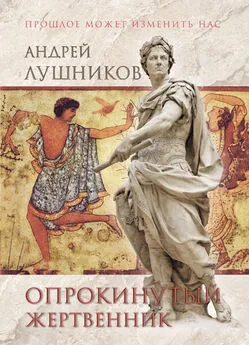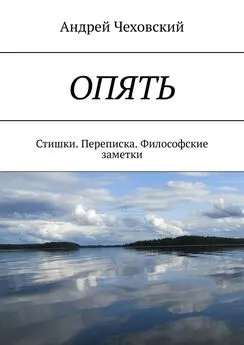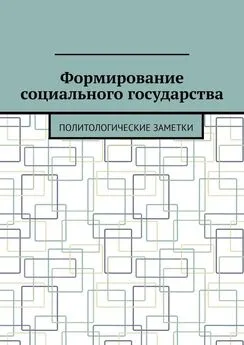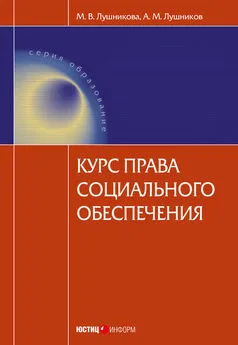Андрей Лушников - Гендерное равенство в семье и труде: заметки юристов. Монография
- Название:Гендерное равенство в семье и труде: заметки юристов. Монография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Проспект (без drm)
- Год:2014
- ISBN:9785392160570
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Лушников - Гендерное равенство в семье и труде: заметки юристов. Монография краткое содержание
Гендерное равенство в семье и труде: заметки юристов. Монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С такой оценкой и выводами трудно согласиться. Во-первых, большая часть аргументов в защиту новеллы Кодекса 1926 г. вполне убедительна. Во-вторых, правовое дозволение или правовой запрет, как известно, не снимает побочных эффектов, никогда не достигает идеала (закон – это «штаны», из которых мальчишка вырастает каждый раз через несколько месяцев, а также – возможность, которой часто могут воспользоваться и мошенники). В-третьих, ошибки («перекосы») судебной практики были всегда, в том числе по делам об установлении отцовства, – и что же – отказываться от процедуры вообще?.. (Впрочем, к проблеме фактического брака мы еще вернемся.)
Кодекс 1926 г. ввел также режим общности имущества супругов, нажитого в браке (ст. 10). Норма Кодекса 1918 г. о раздельном режиме «была направлена против неравноправия женщины, против буржуазных представлений, утверждавших главенство мужа в режиме имущественных отношений супругов. Но вскоре выяснилось, – писал Г. М. Свердлов, – что… провозглашение только раздельности имущества нередко ущемляет интересы трудящейся женщины, несправедливо отстраняя ее от права на то имущество, которое нажито в браке 176. Д. И. Курский уточнил мотивацию данной новеллы: «жена рабочего, хозяйка, ведет все домашнее хозяйство, занимается воспитанием малолетних детей и этим участвует в общем хозяйстве, а при разводе ничего не получает потому, что муж-рабочий, разводясь с ней, берет все с собой»; потребность общности режима выявлена еще судебной практикой 1922 г. – по делам, где жена ограничивалась работой только по обслуживанию семьи, не принося доходов извне, но производя, однако, «полезную работу, вполне соответствующую работе мужа…» 177. Таким образом, de jure была признана социальная ценность работы по дому (разумеется, если ею занимался муж, в порядке «эксклюзива» отношений, новелла была призвана защитить и его интересы; без формально-юридической реакции оставался вариант равноправной «гармонии» в домашнем труде…).
Через 10 лет после принятия Кодекса, одного из самых либеральных семейных законов России (а в мировом масштабе и в те времена – архилиберального), идеология и методология семейно-правового регулирования стала кардинально меняться: возобладали публично-правовые начала и содержательная жесткость нормативных предписаний. Во-первых, 27 июня 1936 г. было издано постановление ЦИК и СНК СССР «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах» 178. Г. М. Свердлов подчеркивал, что оно «представляло собою одно из ярчайших проявлений культурно-воспитательной функции социалистического государства» 179. Разумеется, та часть постановления, которая имела целью улучшить демографическую ситуацию и укрепить семью позитивными методами (пособиями на ребенка, фиксированными размерами алиментов в процентах, даже некоторым усложнением процедуры развода) – в целом намечала положительный вектор развития. Однако запрет абортов (отмененный, кстати, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1955 г.) в слаборазвитой стране, – как справедливо подчеркивает М. В. Антокольская, – население которой не имело даже самых элементарных представлений о планировании семьи, привело к их массовой криминальной составляющей с тяжелыми последствиями 180; страх уголовного наказания (уголовная ответственность была введена в отношении как «исполнителей», так и «заказчиков» операции) – к многочисленным смертям женщин из-за необращения за медицинской помощью в случае тяжких осложнений после аборта. Суждения ряда юристов 30-х – 50-х годов, – отмечает М. В. Антокольская, – цитируя в качестве примера, в частности, выдержки из научной статьи Г. М. Свердлова, – напоминают скорее образцы идеологемм героев Дж. Оруэлла, нежели теоретические работы по семейному праву 181.
(«Новый запрет, – внешне сдержанно констатирует М. Арбатова, – Россия ввела одновременно с фашистской Германией. С 1936 по 1955 год за криминальные аборты было осуждено и расстреляны тысячи врачей и женщин, статистика умалчивает, сколько погибло от криминальных абортов») 182.
В условиях усиливающейся реакции в «книгу жизни» в духе Дж. Оруэлла продолжали вписываться новые страницы и среди них – ярчайшая по своей негативной энергии – Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. – с названием, отражающим лишь незначительную, пусть и важную, часть его содержания: «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» 183.
По точной характеристике М. В. Антокольской, указ мгновенно отбросил наше законодательство на столетие назад 184, его негативные последствия сказались на многих поколениях 185. В категорическом негативе оказалась триада: брак, развод, внебрачное родительство.
Во-первых, за скобки правовой защиты был выведен фактический брак. Теоретиками семейного права сразу были «забыты» все аргументы «за» и приведенные нами ранее политические заявления известных деятелей о преходящем и неконститутивном значении госрегистрации брачного союза. Так, Н. В. Рабинович писала, что «брак есть не частное дело людей, а правовой институт, который имеет крупнейшее общественное значение» и потому не может «происходить без участия государственной власти»; к тому же «культурное развитие женщины и рост ее материальной самостоятельности устраняет потребность в особой охране ее на случай вступления в незарегистрированные брачные отношения» 186. В. И. Бошко также полагал, что общественно-политическое значение указа трудно переоценить: изданный «в сложной обстановке войны, он с новой силой и предельной ясностью выразил исключительную заботу Советского государства об укреплении семьи, о детях и матерях…» 187.
Исследуя семейное законодательство периода войны, П. П. Полянский (работа 1996 г.) подчеркивает позитивизм решения о «дезавуировании» фактических браков: основной принцип, «заложенный этим Указом, – признание государством только зарегистрированного брака – является и теперь основополагающим для отечественного семейного права»; эффективное укрепление семьи могло осуществляться лишь при условии выявления и учета всех брачных связей, фактические браки мешали государству и потому, что наносили материальный ущерб и законной семье: имущество распылялось вследствие судебного решения, вызванного легкомысленным поведением главы семьи; доказывание внебрачного отцовства осуществлялось с легкостью 188.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


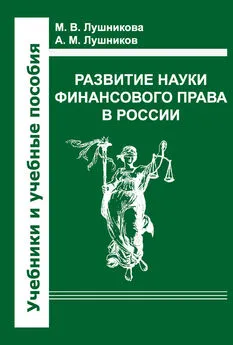


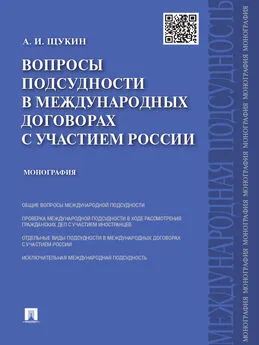
![Андрей Лушников - Красная Луна [СИ]](/books/1079536/andrej-lushnikov-krasnaya-luna-si.webp)