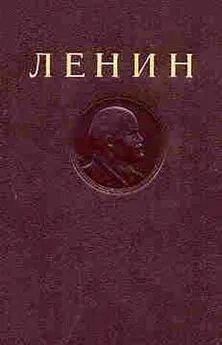Владимир Бибихин - Собрание сочинений. Том II. Введение в философию права
- Название:Собрание сочинений. Том II. Введение в философию права
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Русский фонд содействия образованию и науке
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91244-032-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Бибихин - Собрание сочинений. Том II. Введение в философию права краткое содержание
Собрание сочинений. Том II. Введение в философию права - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Разница между нашим, чувствующим нас, Толстым и Кюстином, который приехал к нам с навыками римского права и священной юридической собственности, в том, что по Толстому наша земля реальность, для Кюстина нашесть земли без полного, обеспеченного правами личности юридического оформления есть лишь иллюзия. Россия не правовое государство, поэтому о собственности говорить не приходится, земля принадлежит народу только в воображении. Для Кюстина недостаточно знать и видеть, что прочного собственника земли нет, чтобы верить самоощущению крестьянина. Для Толстого, наоборот, наша земля настолько важная реальность, что в ситуации фактической непринадлежности земли никому – далекому царю всё равно что никому – нищий крестьянин свободен как царь или, Толстой говорит в одном месте, как Робинзон, рискующий и одинокий вольный хозяин на своем необитаемом острове.
Для Кюстина русский крестьянин только воображает себя хозяином земли, ведь совершенно ясно видно, как хлебосольный столичный аристократ ободрал, обобрал, подсчитывает Кюстин, столько-то крестьян, чтобы иметь серебряный поднос, кофе со сливками и булочку утром, карету, поездку на воды в Германию.
Он – вещь, принадлежащая барину […] хозяин видит в его жизни не что иное, как мельчайшую долю той суммы, что потребна для ежегодного удовлетворения его прихотей (I, 154).
С этой особенностью страны, отсутствием отчетливой, жесткой собственности на землю и соответственно на что бы то ни было (вспомним, как легко отдали свою собственность собственники в революцию, как легко расстаются люди со сбережениями в инфляцию), связано отсутствие среднего класса в России. Кюстин:
В стране, где нет правосудия, нет и адвокатов; откуда же взяться там среднему классу, который составляет силу любого государства и без которого народ – не более чем стадо, водимое дрессированными сторожевыми псами? (I, 250)
Собственно, богатые и бедные – от природы. Когда общество оставлено природе, как деревья в лесу из общей ровной массы выдаются высокие и неудачные. Но ровный нищий лес рядом с богатой рощей без промежутка среднего означает, что почва была по-видимому сдвинута. Тут могло быть только вмешательство насилия, а не органический процесс. Не органика. Хорошее наблюдение:
Здесь […] богатые – не соотечественники бедным (I, 289).
Как странное русское владение землей для Кюстина с его европейским опытом ненормально, так же и отсутствие среднего класса в России. Для Толстого резкая разница между бедностью большинства и богатством немногих, конечно, скандальна, но отсутствие среднего класса не проблема и не беда; он вполне может представить, лишь бы не было вредного влияния со стороны богатых, бедную крестьянскую Россию.
Для Кюстина отсутствие среднего класса признак какого-то силового вмешательства в естественный природный процесс расслоения. Для исправления этого очевидно бывшего насилия – ранней оккупации – он считает нужным противонаправленное усилие.
Всякому обществу, где не существует среднего класса, следовало бы запретить роскошь, ибо единственное, что оправдывает и извиняет благополучие высшего сословия, – это выгода, которую в странах, устроенных разумным образом, извлекают из тщеславия богачей труженики третьего сословия (I, 154).
Интересно, что приговор «русские сгнили, не успев дозреть» относится у Кюстина только к богатым, которые из-за неестественности (смещенности почвы) не могут быть собственно настоящими богатыми, они ложь, в чем только их – даже не в насилии над большинством – и винит Кюстин. Стране без среднего класса, говорит он, негде взять достаточное количество хорошо обученных в школах мастеров (для строительства, эстетической отделки, для воспитания), она берет профессионалов на стороне, на Западе, срыв сначала почву для своего среднего класса, т. е. искусственно подорвав его.
Это неестественное разделение мы встретим на нашем востоке Европы рано. Например, в правовом документе X–XI веков, Русской Правде, заметно различение виры, штрафа за убийство, 80 гривен за тиуна княжа в городе, т. е. среди его граждан, и только 12 гривен за того же тиуна княжа, но сельского; столько же за полевого бригадира, ратайного, с различением между городом и селом как между оккупантами и населением. Территория отвечала за безопасность представителей власти, которые на ней появлялись, и автоматически наказывалась за ущерб ему. Та же круговая порука сельского населения продолжалась во времена Кюстина.
Обычай, обычное право, а именно общинное, общественное владение землей, без закрепления ее за юридическим владельцем, сосуществует – на протяжении веков – со спущенным сверху, из правящей военно-государственной силы, законом. Неюридический, реальный владелец земли, если можно так сказать, – интимный, сросшийся с землей натурой, нравом и родным языком, – откупается от пришедшего со стороны правителя тем, что идет к нему в подчинение. Он отдает власти при этом себя, свою силу, свое время, но не свою землю и не свою почвенную связь с ней. Юридически земля может принадлежать тому, кому определит утвердившаяся власть, однако связь с ней формального владельца непрочная, неорганическая. Она ограничивается получаемым с земли доходом, первоначально данью. Коренной житель срастается с почвой и подобно почве позволяет наступить на себя, топтать себя. Такое отношение человека к земле и оккупанту подробно описано западными социологами на старом традиционном отношении черных к белым в Америке. Подчинение черных здесь было разыграно, часто комически подчеркнуто. Игра в подчинение принадлежит к стратегии покоренного класса, который именно в силу своего низшего положения оказывается ближе к почве, к земле. Подчиненный хочет быть или казаться как можно ниже. Положение под ногами правящих через розыгрыш перевертывается в отношение превосходства, насмешки, покровительства, показной добродушной или скрытой манипуляции хозяином.
Можно называть разными словами – земля, натура, нрав, почва, низ, беря их почти наугад, – вещь осязаемую, более надежную чем ее определения. Я имею в виду связь человека с землей, которая укрепляется, например, поколениями выживания на земле без посторонней помощи. Эта укорененность ощущается и не бросается в глаза. Сила, блеск власти бросаются в глаза. Кюстин видит реальную беспомощность красиво одетых в орденах и чиновных отличиях упитанных начальственных тел и нестойкость правящей пирамиды, которая держится не своим трудом, а задавленным основанием пирамиды. При виде нестойкой постройки становится ясно:
Или цивилизованный мир не позже, чем через пять десятков лет, вновь покорится варварам, или в России свершится революция куда более страшная, чем та, последствия которой до сих пор ощущает европейский Запад (I, 157) [78] К. Леонтьев боялся революции, которую ждал от тех же причин (республиканского европейского уравнения).
.
Интервал:
Закладка:


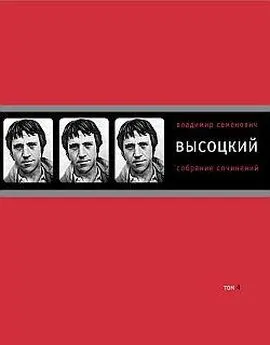
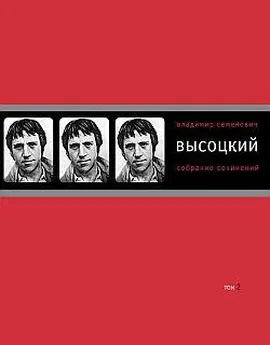
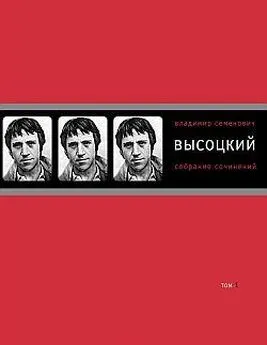
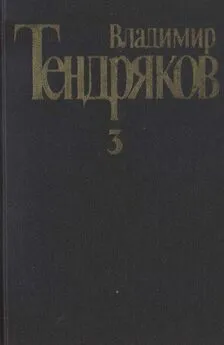
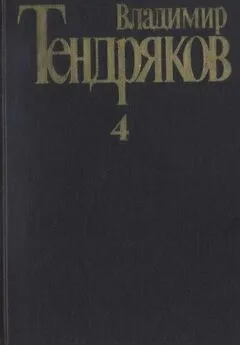
![Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/books/446604/vladimir-tendryakov-sobranie-sochinenij-tom-5-poku.webp)