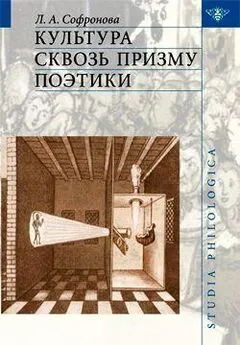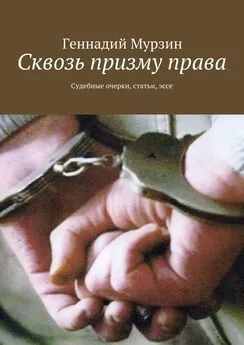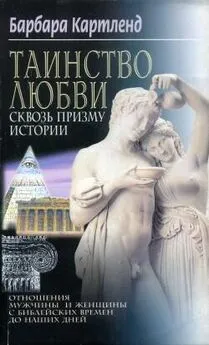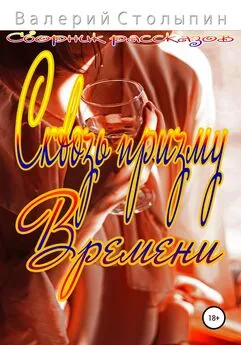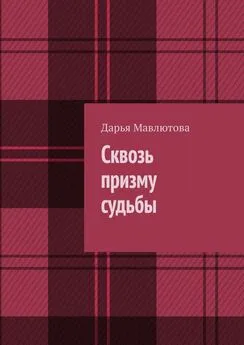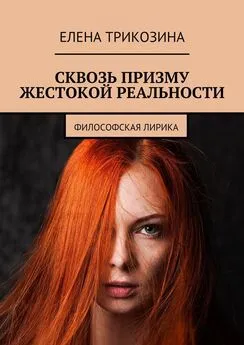Людмила Софронова - Культура сквозь призму поэтики
- Название:Культура сквозь призму поэтики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Знак»
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:ISSN1726-135X, 5-9551-0137-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Софронова - Культура сквозь призму поэтики краткое содержание
Все это проблемы не только истории культуры, но и поэтики Их взаимодействие показано в книге, построенной на материале славянских культур XVII–XX вв. – русской, польской и украинской
Культура сквозь призму поэтики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Факт истории не сохраняется в неизменном виде, но значимость его смыслов не подвергается сомнению. Скорее это произойдет с исторической реальностью, «вплоть до объявления ее несуществующей» [Лотман, 1986, 111]. Эти смыслы не всегда напрямую соотносятся с фактом. Как пишет М. Элиаде про сербский эпос, «стоило Марко оставить след в истории народа, как его истинная личность была забыта, а биография – перестроена в соответствии с мифическими нормами» [Элиаде, 1987, 60]. Слова исследователя знаменательны. Он утверждает, что коллективная память внепсторична, что «она возвращает историческому персонажу нового времени его значение имитатора архетипа и воспроизводителя архетипических действий» [Там же, 68].
Если дальнейшее изучение исторического факта покажет, что ранее он интерпретировался ошибочно, это не значит, что он будет отброшен культурой, так как ошибка – знак формирования исторического самосознания. В ней кроется не просто невежество или неосведомленность. Искажения, вызванные аберрацией исторического видения, свидетельствуют об общеисторической рефлексии. Они порой раскрывают принципы, лежащие в основе исторического видения общества, которое совершенно необязательно «запоминает» только удачные свершения. А. М. Панченко так пишет о восприятии культурой русской истории: «Нация запомнила и сделала символами победы на грани поражений, победы с громадными поражениями» [Панченко, Гумилев, 1990, 24].
Таким образом, будучи абсолютно самостоятельной, наука о культуре не изолирована от истории. Каждое «высказывание и сообщение о духовной и душевной атмосфере эпохи <���…> может быть правильно прочитано только в „большом контексте“ истории и никоим образом не вне его» [Аверинцев, 1985, 300]. История культуры движется вместе с ней, но подчиняясь своим внутренним правилам. Она не повторяет историю, а развивается внутри себя, притом в иных темпах и ритмах, чем история. «Эволюция культуры – явление не только неизбежное, но и благотворное, потому что культура не может пребывать в застывшем, окостенелом состоянии. Но эволюция все же протекает в пределах „вечного града“ культуры» [Панченко, 1986, 248].
Эволюционируя, культура одновременно сохраняет все то, что уже вошло в ее пределы. Она созидает смыслы истории, не только вбирая и отражая ее факты, но и перерабатывая их и наделяя множеством значений [Громова, 1997, 99]. Исторические тексты становятся опытом рефлексии истории. «Ведь нигде как именно в культуре происходит осмысление всего происходящего в жизни, а следовательно, закладывается основа того, какова будет сама эта история» [Михайлов, 1989, 55]. Это не значит, что культура служит учебником истории. Литература и искусство не претендуют на достоверность. Потому, например, «для романа <���…> важна не буквальная фактичность истории, а ее вероятность» [Михайлов, 2003,317].
Кроме того, культура «по-своему преобразует материальную среду, выбирая себе соответствующую, раскрывается в своем материальном быте, в своем социально-экономическом и политическом строе, в своей эстетике, этике, мировоззрении, религиозности» [Карсавин, 1923, 170]. Также определяются отношения культуры с языком.
Язык является объектом исследования истории культуры. Изучается он в лингвокультурном аспекте. «Именно язык позволяет обнаружить связь с мифологическими пластами культуры того или иного народа, с его религиозным опытом, рефлексами эстетического и научного познания мира» [Вендина, 2003, 449]. В языке сохраняются ценностные ориентиры и установки культуры. «Именно поэтому слово представляет собой культурное творение, которое нельзя объяснить, не обращаясь к истории народа, его традициям и религии» [Там же, 450]. Анализ внутренней формы слова позволяет увидеть в нем «"следы культурной практики", „корни того коллективного бессознательного“, которое лежит в основе архетипа языка любой культуры» [Там же, 451].
Для историка культуры чрезвычайно важен анализ ключевых слов. Исследование позволяет адекватно представить, как выбирались эти ключевые слова, как их значения менялись от эпохи к эпохе. Так, например, можно выделить группу слов, с помощью которых на рубеже XVIII–XIX вв. описывался исторический процесс, определялся смысл истории Польши [Филатова, 2004]. Ключевые слова с историческим значением создают особый историко-культурный лексикон.
Опираясь на лингвистические исследования, история культуры изучает не только некоторые феномены, но затрагивает проблемы языка – общего для различных видов культуры. История культуры находится в неразрывных связях с филологией, которую М. Шапир вообще считает наукой о культуре [Шапир, 2002, 56].
«Литература – неотрывная часть культуры, ее нельзя понять вне целостного контекста всей культуры данной эпохи. Ее недопустимо отрывать от остальной культуры и, как это часто делается, непосредственно, так сказать, через голову культуры соотносить с социально-экономическими факторами» [Бахтин, 1979, 329]. Это высказывание сделано в духе времени, но главное в нем – указание на целостный культурный контекст, без которого не живет литература. Точно так же история культуры немыслима без литературы. Она не только изучает заложенный в литературных произведениях историко-культурный материал.
Конечно, произведения различных видов искусств – неисчерпаемый источник для историка культуры. Они содержат информацию об истории, этнографии, национальной психологии, типах официального и бытового поведения, литературных вкусах и о многом другом, так как являются не только эстетическим сообщением, но всегда содержат внеэстетическую информацию. Потому, вспомнив слова В. Г. Белинского о романе «Евгений Онегин», можно сказать, что каждое литературное произведение есть своего рода «энциклопедия».
Различная историко-культурная информация необязательно содержится в центральных линиях сюжета, характеристиках главных персонажей. Она может находиться на периферии литературного произведения, записываться за второстепенными персонажами. Историко-культурную информацию несут незначащие, казалось бы, детали. Извлекая ее, историк культуры принимает во внимание не только ее эстетическую ценность, но и внеэстетическую. Сделать это гораздо легче по отношению к произведениям слабым, несовершенным. «В произведениях писателей второго, третьего ряда разница между литературой и нелитературным сообщением размывается» [Чудаков, 1986, 30]. В них историко-культурный материал обычно лежит на поверхности, хотя зачастую расходится с исторической реальностью. Несмотря на то, что такие произведения не входят в культурный фонд, в них тем не менее, выражаясь языком романтизма, живет «дух эпохи», пусть и несовершенно переданный. Поэтому они также подлежат историко-культурной интерпретации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: