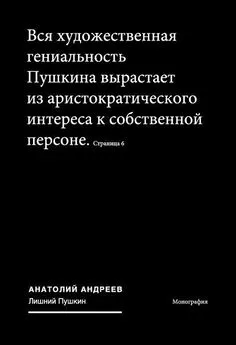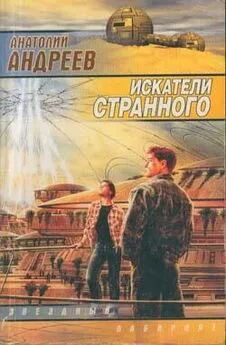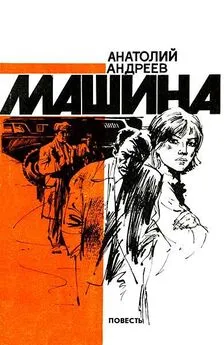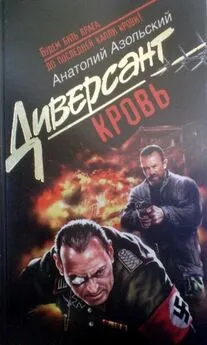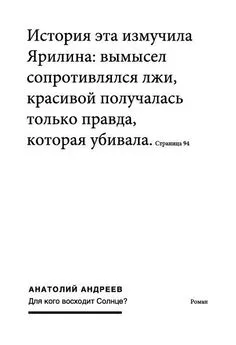Анатолий Андреев - Лишний Пушкин
- Название:Лишний Пушкин
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2010
- Город:Минск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Андреев - Лишний Пушкин краткое содержание
Лишний Пушкин - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Итак, Пушкин различает смелость стилевую, новаторство образно-поэтического порядка, и смелость («высшую смелость») собственно содержательную, восходящую к более или менее развёрнутым представлениям о концепции личности. «Изобретение», «план обширный» – это не что иное, как порождённая творческой мыслью новая, гениально обобщённая до степени типа духовная программа. Причём приоритет духовно-содержательного компонента творчества, недвусмысленно выделенный Пушкиным, является для него же не беглым заметочным эпизодом, а тщательно продуманной принципиальной позицией. Это подтверждается и другими мыслями Пушкина, высказанными в разное время и по разным поводам. «Что такое сила (здесь и далее в цитате курсив Пушкина – А.А.) в поэзии? сила в изобретении, в расположении плана (т. е. в концепции личности – А.А.), в слоге ли?» « Гомер неизмеримо выше Пиндара; ода, не говоря уже об элегии, стоит на низших степенях поэм, трагедия, комедия, сатира – всё более её требуют творчества (fantaisie) воображения – гениального знания природы. Но плана нет в оде и не может быть; единый план «Ада» есть уже плод высокого гения. Какой план в Олимпийских одах Пиндара, какой план в «Водопаде», лучшем произведении Державина?
Ода исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого». [5] Там же, с. 41–42.
Речь, конечно, не о трактовке Пушкиным проблемы, традиционно обозначаемой как соотношение содержания и формы. Слишком общие высказывания мало что прояснят в этом смысле. Однако слова поэта-теоретика существенны в другом отношении (тогда, правда, они не несли того дискуссионного подтекста, который актуализировался в наше время, когда искусство вздумало начинаться «там, где кончается человек»): у него нет сомнений, что художественная ценность произведения тем выше, чем более значима его духовная подоплёка, ставшая предметом художественного исследования.
Именно внеэстетическая проблематика требует «единого плана», который следует понимать, конечно, не как собственно эстетический план, некую композицию себе, как таковую – а как отражение сопрягаемых мировоззрений героев, упорядоченную систему ценностей, организованную в иерархическую вертикаль. Создание подобной иерархии (единого плана) и требует «постоянного труда». Пушкин прекрасно отдавал себе отчёт в том, что «истинно великое» может быть только по человечески великое, но никогда – как собственно эстетическая, поэтическая смелость.
Работать, творить – это значит прежде всего мыслить. Глубиной мысли измеряется духовная и творческая зрелость. Такой вывод находит подтверждение и в наблюдениях над собственным творчеством. Вот, в частности, строки из письма к Н.Н. Раевскому-сыну, свидетельствующие о чуткости Пушкина к «смутному» моменту превращения проблемы духовной в собственно творческую (письмо относится ко времени работы над трагедией «Борис Годунов» – произведению, в основу которого положен «план», плод собственного постижения философии власти): «Я пишу и размышляю. Большая часть сцен требует только рассуждения; когда же я дохожу до сцены, которая требует вдохновения, я жду его или пропускаю эту сцену – такой способ работы для меня совершенно нов. Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить» (выделено мной – А.А.). [6] Там же, т.10, с.776.
Попытаемся с этих позиций взглянуть на роман в стихах «Евгений Онегин» и ответить на ряд вопросов: чем определяется его никем не оспариваемое «истинное величие»? Есть ли в нём «высшая смелость» – смелость «изобретения», творческий подвиг, реализовавшийся в «едином плане», и в чём, наконец, суть этого плана?
Почему в качестве «теста» на духовную и художественную зрелость избран именно «Евгений Онегин»?
Расчленение пушкинской творческой биографии на три этапа, три семилетия (ранний – 1816–1823; зрелый – 1823–1830; поздний – 1830–1837) является в значительной мере условным. [7] Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. – М.: Советский писатель, 1983. – С. 253–258.
Вместе с тем центральное место «Евгения Онегина», работа над которым хронологически совпадает со «зрелым» семилетием, в творческой и духовной судьбе поэта не вызывает сомнений. «Запечатлевшая процесс формирования пушкинской картины мира(здесь и далее в цитате выделено мной – А.А.), эта книга стала бесспорно вершинным явлением национальной поэзии, и в то же время она заложила основы и дала своего рода программу русского классического романакак центрального жанра нашей литературы; она в сжатом, свёрнутом виде предвосхитила основные узлы человеческой проблематикиэтой литературы; (…). Не будет ничего удивительного, если со временем обнаружится, что в «Онегине» – заведомо исключающем возможность прямого следования его неповторимой «традиции» – содержится тем не менее также и программа русского литературного развития в целом(…)». [8] Там же, с. 258–259.
Роман в стихах «Евгений Онегин» и будет интересовать нас именно в данном, исключительном своём качестве – в качестве «программы русского классического романа», а также «программы русского литературного развития в целом». Основополагающее начало «программы» сосредоточено в «пушкинской картине мира», в которой особым образом проинтерпретированы «основные узлы человеческой проблематики». Иначе говоря, Пушкин чётко сформулировал (настолько чётко, что в характере постановки проблемы содержалось потенциальное решение), а затем и «решил» проблему, творчески воплотил, «изобрёл» свой «план», «картину мира», внутренне согласованную систему духовных ценностей в форме художественной модели. Познать же образную модель в отношении её «истинного величия» можно только одним способом: рационально-логически «разложить» её, выявить сущностное ядро.
К сказанному следует добавить, что уникальность «Онегина», где, словно в зерне, в «свёрнутом виде» была заложена логика пути одной из немногих величайших литератур мира, видится ещё и в том, что общекультурное его значение выходит далеко за рамки национальной или, если угодно, цивилизационные (России как цивилизации). Духовно-эстетический масштаб романа, его совместимость с разноуровневыми, разноплоскостными, разнородными измерениями и точками отсчёта, его предрасположенность к любой конструктивно, жизнеутверждающе ориентированной ментальной программе – его, коротко говоря, целостнаяприрода, открытая законченность, которая является одновременно моментом целостности иных уровней и порядков (а потому способная репрезентировать свойства универсума) – требует многопланового контекста. «Евгений Онегин» – это явление и поэтики (стиля), и национального самосознания, и духовно-психологических архетипов homo sapiens'а, и спектра нравственно-философских смыслов, и «тайной» личной свободы, и явной общественной необходимости – и т. д. и т. д. Взаимные метастазы макро– и микроуровней с трудом поддаются умозрительному расчленению.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: