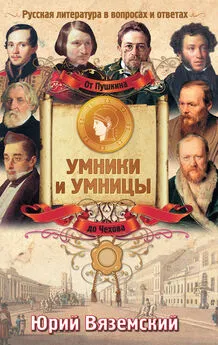Игорь Сухих - Русская литература для всех. Классное чтение! От Гоголя до Чехова
- Название:Русская литература для всех. Классное чтение! От Гоголя до Чехова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Команда А»
- Год:2013
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-4453-0053-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Сухих - Русская литература для всех. Классное чтение! От Гоголя до Чехова краткое содержание
Под обложкой этой книги оказались: Н. В. Гоголь, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, И. А. Гончаров, А. Н. Островский, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. А. Некрасов и А. П. Чехов.
О них и об их произведениях рассказывает критик, литературовед, автор книг о русской литературе И. Н. Сухих.
Русская литература для всех. Классное чтение! От Гоголя до Чехова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я убежден, что поручик в состоянии был дойти до таких столпов или до такой безбрежности, что, может быть, в тот же вечер своей даме в мазурке, старшей дочери хозяина, объяснился в любви и сделал формальное предложение. Бесконечно трагичен образ этой барышни, порхающей с этим молодцом в очаровательном танце и не знающей, что ее кавалера всего только час как высекли и что это ему совсем ничего. Ну а как вы думаете, если б она узнала, а предложение в се-таки было бы сделано – вышла бы она за него (разумеется, под условием, что более уж никто не узнает)? Увы, непременно бы вышла!» («Дневник писателя», 1873, «Нечто о вранье»)
Для Достоевского этот бессмертный гоголевский образ оказывается воплощением важной – и постыдной – черты национального характера: цепной реакции бесчестья и бессовестности. Пироговы, по Достоевскому, – это люди с двойной моралью. Демонстрируя окружающим благородство и твердость, наедине с собой они оказываются жалкими трусами и пошляками.
Две человеческих судьбы противопоставлены Гоголем по принципу сходства и в то же время абсолютного контраста. Оба героя обманываются, «обдергиваются» – как Германн в «Пиковой даме». Но для Пискарева крушение его мечты оказывается трагедий, катастрофой. Поручик Пирогов, напротив, мгновенно забывает унижение и продолжает жить как ни в чем не бывало.
«Молчалины блаженствуют на свете!» – восклицает Чацкий. В «Невском проспекте» блаженствуют бессовестные обыватели поручики Пироговы и гибнут восторженные, возвышенные Пискаревы.
ФИНАЛ:
Фоном для этих судеб оказывается призрачны£ Петербург, контрастный Невский проспект. Начинается повесть, как мы помним, с восхищения «этой улицей – красавицей нашей столицы». Повесть строится по принципу композиционного кольца : в конце повествователь снова появляется со своим прямым словом, но он уже не как восхищенный иронический наблюдатель, а как грустный мыслитель.
«Дивно устроен свет наш! – думал я, идя третьего дня по Невскому проспекту и приводя на память эти два происшествия. – Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша! Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходит наоборот».
Далее следуют несколько комических гротескных примеров, подтверждающих эту вполне серьезную мысль: «Тому судьба дала прекраснейших лошадей, и он равнодушно катается на них, вовсе не замечая их красоты, – тогда как другой, которого сердце горит лошадиною страстью, идет пешком и довольствуется только тем, что пощелкивает языком, когда мимо его проводят рысака. Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить; другой имеет рот величиною в арку Главного штаба, но, увы! должен довольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля. Как странно играет нами судьба наша!»
И кончается повесть страстным предупреждением и заклинанием, вырастающим из символического изображения лживого, враждебного, дьявольского города. «О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется! <���…> Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде».
В финале повести, романтически закутавшись плащом, бредет по ночному Невскому проспекту маленький человек. Он – один во враждебном мире, в котором гибнут художники-мечтатели, но живут-поживают пошляки и богачи.
В «Медном всаднике» Пушкин начинает новый петербургский текст. В «Невском проспекте» Гоголь вписывает в него важные страницы.
Город пышный оказывается городом-призраком, одержимым демоном. Гоголевские герои лишь гуляют по Невскому проспекту, но живут в городе бедном, обитателем которого был Евгений из «Медного всадника», а позднее станут персонажи «Бедных людей», «Белых ночей», «Преступления и наказания» и других произведений Ф. М. Достоевского.
Призрачный, вымышленный, литературный Петербург сделался для писателей и читателей следующих поколений столь же реальным, как и Петербург, придуманный Петром и построенный Растрелли и Росси.
«Мертвые души»
(1842)
ПОЭМА: ГОМЕР, ДАНТЕ, СЕРВАНТЕС И ЧИЧИКОВ
Над «Мертвыми душами», включая и сожженный второй том, Гоголь работал около семнадцати лет из тех двадцати трех, которые он посвятил литературе. Поэма стала книгой жизни , заветным трудом, произведением, которое все время вырастало в своем значении. Как и «Ревизор», «Мертвые души» приобрели в сознании писателя грандиозный, исключительный смысл.
Гоголь постоянно подчеркивал масштаб своего замысла. Уже в начале работы, причем в письме А. С. Пушкину, Гоголь гордо заявит: «Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь» (7 октября 1835 г.).
Через год в письме другому петербургскому покровителю замысел расширится: «Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то… какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем! Это будет первая моя порядочная вещь, вещь, которая вынесет мое имя» (В. А. Жуковскому, 12 ноября 1836 г.).
Этот огромный и оригинальный сюжет (точнее было бы сказать: фабулу ), как утверждал позднее сам Гоголь, подсказал ему старший товарищ: «Пушкин находил, что сюжет „Мертвых душ“ хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров».
Однако, подарив идею, зерно, фабулу, писатель не может передать другому свое мировоззрение, эстетику, стиль. Некоторые литературоведы утверждают, что Пушкин как раз и отказался от этого замысла, потому что он был ему не нужен, чужд его художественному миру.
Но и Гоголь не сразу понял, что из этих поездок по России может получиться. Позднее, когда первый том был уже окончен, он вспоминал: «Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что смешной проект, исполненьем которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самом охота смеяться создаст сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными. Но на всяком шагу я был останавливаем вопросами: зачем? к чему это? что должен сказать собою такой-то характер? что должно выразить собою такое-то явление? <���…> Я увидел ясно, что больше не могу писать без плана, вполне определительного и ясного, что следует хорошо объяснить прежде самому себе цель сочиненья своего, его существенную полезность и необходимость…» («Авторская исповедь»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: