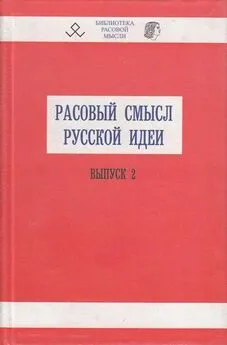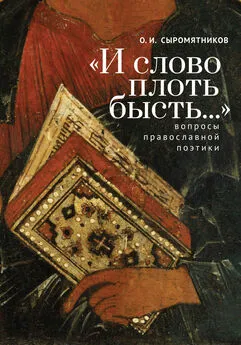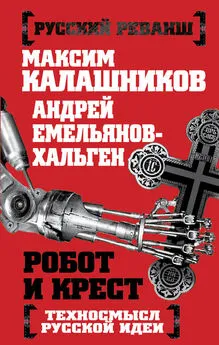Олег Сыромятников - Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского
- Название:Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Маматов»
- Год:2014
- Город:Пермь
- ISBN:978-5-91076-109-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Сыромятников - Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского краткое содержание
Автор показывает, что осмысление бытия Божия в мире, причины отпадения и возвращения к Нему человека составляют содержание главной идеи жизни и творчества Достоевского. В неё входит и деятельный сознательный патриотизм, заключающийся в стремлении понять и выразить в слове замысел Бога о России – русскую идею. Любовь к Богу и России составляют основу мировоззрения Достоевского и определяют идейное содержание, образную систему и особенности композиции пяти романов, созданных им в период 1865–1880 гг. и получивших название «великого пятикнижия»: «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1668), «Бесы» (1872), «Подросток» (1875) и «Братья Карамазовы» (1880). Изучению закономерностей и особенностей воплощения русской идеи в образности великого пятикнижия и посвящена эта книга.
Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В записной тетради, содержащей окончательную редакцию романа, Достоевский записывает: «СИМВОЛ ВЕРЫ» [7; 161], «На этот счёт я вам любопытный анекдот расскажу, символ веры» [7; 165]. Это понятие означает краткое, но полное и точное изложение «главных догматов веры, без доказательств, как предмета восприятия верой» (104;57) каким-либо человеком или сообществом людей. Сам Достоевский писал об этом так: «Я сложил в себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпа<���ти>чнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» [28, 1; 176] [58] Заметим, что никакого противоречия с Евангелием здесь нет, так как Христос есть Бог, а значит – Истина всех истин, абсолютная Истина, выходящая за пределы и логического доказывания, и умопостигаемой действительности.
. Как замечает К. А. Степанян, «с этим зримым, реальнымощущением Христа Достоевский прожил всю жизнь…» [59] Степанян К. А. К пониманию «реализма в высшем смысле» // Достоевский и мировая культура. Альманах, № 9. – М.: Классика плюс, 1997. – С. 30.
.
Православие учит, что одной из открытых человеку целей Боговоплощения было желание Бога-Любви стать ближе к людям. Природа Бога, проявляющаяся в энергиях любви, истины, добра и красоты, с приходом в мир Христа стала видимой, слышимой и осязаемой [60] По словам св. Иринея Лионского, «для того Слово Божие сделалось человеком и Сын Божий – Сыном человеческим, чтобы человек, соединившись с Сыном Божиим и получив усыновление, сделался сыном Божиим» (В кн.: Иларион (Алфеев), епископ. Православие: В 2 томах. – Изд-во Сретенского монастыря. М., 2008. – Т. 1. – С. 632).
. Евангелие говорит, что Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4). Путь спасения от смерти был указан Богом от сотворения человека, но лишь у немногих людей хватало сил идти им в одиночку. И тогда, ради спасения всех, Бог стал человеком и «пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы могли идти по следам Его» (1 Петр. 2:21).
Черновики романа отражают процесс формирования ядра содержания внутренней идеи романа: « Капитальное . Всё замутилось! Где же обетование, что пребудет «Дух во веки», что пребудет до скончания мира Христос и что, стало быть, уже не уклонится в своём развитии с пути человечество? Стало быть, непременно есть где-нибудь!» [7; 191]. Отвечая на этот вопрос, писатель долгое время обдумывал варианты непосредственного включения в повествование образа Христа, с явления Которого должно было начаться возрождение главного героя к жизни. В первой редакции: «Христос, баррикада» [7; 77]. Во второй: «Видение Христа. Прощение просит у народа» [7; 135]; «Ходьба, видение» [7; 137]; «Видение Христа» [7; 139]. В третьей: «Вихрь, Христос…» [7; 148]. И наконец, уже после идейного синтеза, возникает замысел отдельной главы: «Глава «Христос» <���…> кончается пожаром» [7; 166]. Явление Христа должно было открыть преступнику его неправоту, подвигнуть к совершению какого-нибудь подвига во имя людей (например, спасти кого-нибудь на каком-нибудь пожаре), заставить сознаться в преступлении, «принять страдание» и в конце концов возродиться к новой жизни [61] Важно отметить, что мысль о возможности нахождения поэтических средств для точного, не погрешающего против евангельского Откровения, изображения Христа в художественном тексте не оставляла писателя и после окончания романа. В декабре 1867 г. (через год после окончания «Преступления…») Достоевский пишет А. Н. Майкову о новом замысле: « Давно уже (курсив наш. – О. С.) мучила меня одна мысль, но я боялся из неё сделать роман, потому что мысль слишком трудная и я к ней не приготовлен, хотя мысль вполне соблазнительная и я люблю её. Идея эта – изобразить вполне прекрасного человека . Труднее этого, по-моему, быть ничего не может, в наше время особенно» [28, 2; 240–241]. Слова «давно уже», несомненно, указывают и на время создания «Преступления…».
. Обдумывая сцену явления Христа главному герою , писатель представлял, как Он будет выглядеть, что и как будет говорить и делать. Но в окончательном тексте романа этой сцены нет. Писатель пошёл иным путём – постарался увидеть и показать образ Бога в душах своих героев. Поэтому ответ на вопрос о том, насколько Раскольников сохранил в себе этот образ, должен одновременно стать ответом на вопрос о возможности его спасения. Полагаем, что поэтические средства, использованные писателем для решения этой задачи, в разных романах великого пятикнижия не могут быть принципиально разными, и поэтому обращаемся к интересным наблюдениям И. А. Кирилловой над образом главного героя в «Идиоте». По её словам, для того, чтобы создать «истинно христоподобный образ, единосущный со своим прообразом, Христом, «просвечиваемый» Им и проявляющий Его через отрешённую любовь и жертвенность», Достоевским «применяются некоторые приёмы иконописи: <���…> умаление чувственных черт, выделение духовно значимых черт, лика, взора. Натуральная перспектива заменяется перспективой обращённости на зрителя с целью вовлечения в преобразующее его откровение <���…>. Христоподобный образ Мышкина должен быть «поставлен» посредством приёмов, обособляющих и преображающих образ, не нарушая при этом его органической связи с окружающими «земными» образами» [62] Кириллова И. А. Литературное воплощение образа Христа // Вопросы литературы. 1991. Август. – С. 71.
. При этом «выделяемые детали (фигура, глаза, светлые волосы, борода, одежда с её скудостью и непригодностью к суровым условиям) отражают иконописно и духовно значимые черты: душевную чистоту, бедность в миру, отрешённость от чувственного» [63] Там же. – С. 72.
.
Для создания образа Раскольникова писатель использовал те же средства. Особо подчёркнута его «бедность в миру» – уже после переодевания в новый костюм «от Разумихина» Раскольникова выглядит так, что Пульхерия Александровна замечает: «Но, Боже мой, какой у него костюм, как он ужасно одет! У Афанасия Ивановича в лавке Вася, рассыльный, лучше одет!» [6; 173]. Также в полной мере проявляется его «отрешённость от чувственного» – Раскольников много дней может не есть, не выходить из дома и вообще не замечать отсутствия минимального комфорта. При этом в его образе совершенно отсутствует плотское начало, и даже встреча с уличной проституткой не пробуждает в нём ни капли сладострастия [6; 123]. Не оставляет сомнения и «душевная чистота» героя, лежащая в основе всех его добрых поступков: помощи близким, семейству Мармеладовых, девочке на бульваре, университетскому товарищу и его отцу, спасения детей на пожаре и пр.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: