Е. Капинос - Поэзия Приморских Альп. Рассказы И.А. Бунина 1920-х годов
- Название:Поэзия Приморских Альп. Рассказы И.А. Бунина 1920-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Знак»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9905762-6-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Е. Капинос - Поэзия Приморских Альп. Рассказы И.А. Бунина 1920-х годов краткое содержание
Приложение содержит философско-теоретические обобщения, касающиеся понимания истории, лирического сюжета и времени в русской культуре 1920-х годов.
Книга предназначена для специалистов в области истории русской литературы и теории литературы, студентов гуманитарных специальностей, всех, интересующихся лирической прозой и поэзией XX века.
Поэзия Приморских Альп. Рассказы И.А. Бунина 1920-х годов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
За степью, в приволжских песках,
Широкое алое солнце тонуло.
Ребенок уснул у тебя на руках
〈…〉
Ты, девочка, тихая сердцем и взором,
Ты знала ль в тот вечер, садясь на песок,
Что сонный ребенок, державший твой темный сосок,
Тот самый Могол, о котором
Во веки веков не забудет земля?
Ты знала ли, Мать, что и я
Восславлю его, – что не надо мне рая,
Христа, Галилеи и лилий ее полевых,
Что я не смиреннее их, –
Атиллы, Тимура, Мамая,
Что я их достоин, когда,
Наскучив таиться за ложью,
Рву древнюю хартию Божью,
Насилую, режу, и граблю, и жгу города? (1; 405).
В «Грасском дневнике» Г. Н. Кузнецовой нашли отражение следующие мысли уже «позднего» Бунина:
В русском человеке все еще живет Азия, китайщина… Посмотрите на купца, когда он идет в праздник. Щеки ему подпирает невидимый охабень. Он еще в негнущихся ризах. И царь над этим народом, и в конечном счете великомученик. Все в нас мрачно. Говорят о нашей светлой радостной религии… ложь, ничто так не темно, страшно, жестоко, как наша религия. Вспомните эти черные образа, страшные руки, ноги… А стояние по восемь часов, а ночные службы… Нет, не говорите мне о «светлой» милосердной нашей религии… Да мы и теперь недалеко от этого ушли. Тот же наш Карташев, будь он иереем, – жесток был бы! Был бы пастырем, но суровым, грозным…
А Бердяев? Так бы лют был… Нет, уж какая тут милостивость. Самая лютая Азия… [55] Кузнецова Г. Н. Грасский дневник… С. 124.
Мотивы «лютой» волжской Азии звучат и в «Речном трактире», и в «Визитных карточках».
Композиция «Речного трактира», как и характерно для позднего Бунина, четко прорисована и контрастна: основной сюжет – две мимолетных встречи доктора с незнакомкой в старинном волжском городе – обрамлен московскими сценами, которые происходят в известном ресторане «Прага» на Арбате. Раскрасневшийся от выпитого доктор вспоминает то, что когда-то случилось с ним на Волге, и последовательное чередование «московского» и «волжского» дает образ России и «русского».
Как известно, после «Окаянных дней» важнейшей сферой приложения писательского дара для Бунина становится публицистика. В сороковые-пятидесятые Бунин то и дело обращается к мемуарным жанрам, публикует в периодике множество заметок, издает «Воспоминания» (1950) [56] См.: Михайлов О. Н. Страстное слово // Бунин И. А. Публицистика 1918–1953 годов. М.: ИМЛИ РАН, 1998. С. 5–20.
, до последних дней обдумывает книгу о Чехове и состав сборника «Под серпом и молотом». Другие «документальные кадры» входят в автобиографический роман «Жизнь Арсеньева»: так, в XIX главе 4-ой книги описывается, как Арсеньев встречает на орловском вокзале траурный поезд с телом «грузного хозяина необъятной России» – Александра III, а в XXI–XXII главах той же книги – провожает в последний путь на Антибе Великого Князя Николая Николаевича. В «Темные аллеи» тоже вложено множество живых впечатлений и воспоминаний о конкретных эпизодах из истории дореволюционной России. Беглые портреты реальных людей примешиваются к портретам вымышленных героев: в финале «Чистого понедельника», события которого относятся к началу 1914 г., появляется Великая Княгиня Елизавета Федоровна и ее племянник Великий Князь Дмитрий Павлович [57] Дмитрием Павловичем зовут главного героя «Митиной любви», и эта ономастическая связь с царской фамилией, придает судьбе Мити символические черты: на гибнущем отпрыске благородного дворянского рода стоит печать погибшей империи, не успевшей расцвести.
, между тем к 1944 г. (времени создания рассказа) прошло уже четверть века с того момента, как Елизавета Федоровна приняла мученическую кончину. В этом же рассказе герои проводят масленицу 1913 г. на капустнике Художественного театра со Станиславским, Москвиным, Качаловым, Сулержицким (как известно, в эмиграции Бунину довелось лишь дважды встретиться с актерами МХАТа, приезжавшими в Париж на гастроли в 1922 и 1937 гг.) [58] Этот ряд можно продолжить: во «Втором кофейнике» героиня вспоминает Шаляпина, Малявина и Коровина, заметим, что все три фамилии одинаково оканчиваются, все трехсложны и образуют «русскую тройку» благодаря «русскому» звучанию и русской тематике, объединяющей творчество певца и двух художников.
.
В «Речном трактире» тоже есть невыдуманный герой – Валерий Брюсов:
Тут еще вот что – некоторые воспоминания. Перед вами заходил сюда поэт Брюсов с какой-то худенькой, маленькой девицей, похожей на бедную курсисточку, что-то четко, резко и гневно выкрикивал своим картавым, в нос лающим голосом метрдотелю, подбежавшему к нему, видимо, с извинениями за отсутствие свободных мест, – место, должно быть, было заказано по телефону, но не оставлено, – потом надменно удалился. Вы его хорошо знаете, но и я с ним немного знаком, встречались в кружках, интересующихся старыми русскими иконами, – я ими тоже интересуюсь, и уже давно, с волжских городов, где служил когда-то несколько лет. Кроме того, и наслышан о нем достаточно, о его романах, между прочим, так что испытал некоторую жалость к этой, несомненно, очередной его поклоннице и жертве. Трогательна была она ужасно, растерянно и восторженно глядела то на этот, верно, совсем непривычный ей ресторанный блеск, то на него, пока он скандировал свой лай, демонически играя черными глазами и ресницами (7; 177).
Таким образом, в «Речном трактире» появляется пара, очень похожая на писателя и его попутчицу из «Визитных карточек»: известный поэт, во всем облике которого сказывается уверенность (и даже звериная хищность – «выкрикивал картавым… лающим голосом») и подчиненная поэту трогательная спутница [59] Очевидно, что один и тот же комплекс мотивов связывает поклонницу Брюсова в «Речном трактире» с героиней «Визитных карточек»: «похожей на бедную курсисточку» («Речной трактир») – «мечтала гимназисткой» («Визитные карточки»); «желание воспользоваться ее наивностью», «испытал некоторую жалость к этой, несомненно, очередной его поклоннице и жертве» («Речной трактир») – «возбуждало его жалостью, нежностью, страстью» («Визитные карточки»).
.
Рассказчик (доктор), как нередко бывает у Бунина, наделен автобиографическими чертами, и это напоминает о том, что реальные отношения Бунина и Брюсова отличались напряженным вниманием друг к другу и взаимным неприятием. Напечатав стихотворный сборник «Листопад» (1901) в «Скорпионе» у Брюсова [60] См. об этом: Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве И. А. Бунина: Критические отзывы, эссе, пародии (1890-е–1950-е годы): Антология. М.: Книжица; Русский путь, 2010. С. 47–59.
, Бунин резко разошелся с символистами, «не возымев никакой охоты играть с… новыми сотоварищами в аргонавтов, в демонов, в магов и нести высокопарный вздор» (9; 263–264). Но в 1910 г., как указывает С. Н. Морозов, отношения возобновились в связи с редактированием Брюсовым литературного отдела «Русской мысли», а затем вновь угасли [61] Морозов С. Н. Бунин – литературный критик: Дис…. канд. филол. наук. М., 2002. С. 59.
. В незавершенной статье о Брюсове (неопубликованная рукопись хранится в Орловском архиве) Бунин
Интервал:
Закладка:


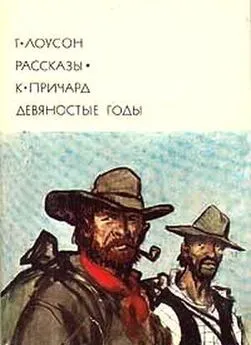
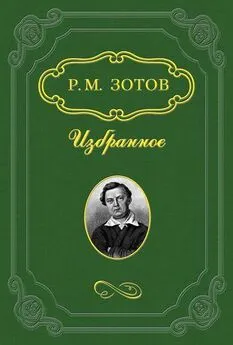

![Владимир Лидин - Рассказы о двадцатом годе [Сборник]](/books/585650/vladimir-lidin-rasskazy-o-dvadcatom-gode-sbornik.webp)
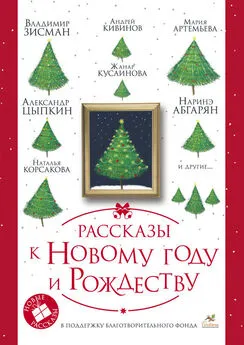


![Ольга Лукас - Рассказы к Новому году и Рождеству [антология]](/books/1100299/olga-lukas-rasskazy-k-novomu-godu-i-rozhdestvu-an.webp)
