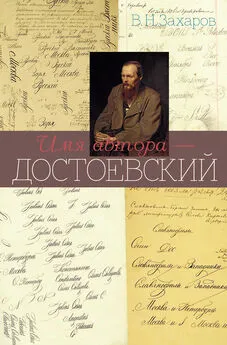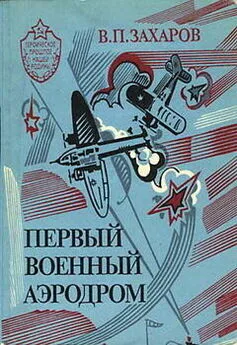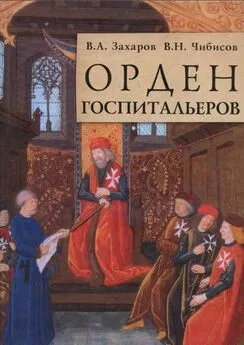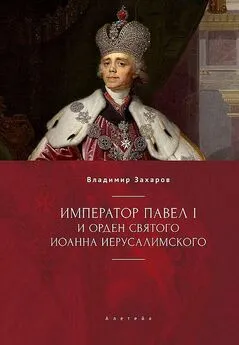Владимир Захаров - Имя автора – Достоевский
- Название:Имя автора – Достоевский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Индрик»
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91674-242-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Захаров - Имя автора – Достоевский краткое содержание
Имя автора – Достоевский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
У героя «Двойника» примечательное имя – Яков. Оно отсылает читателя к Библии, к эпизоду первой книги «Бытие» из «Пятикнижия Моисея». Иаков – сакраментальное близнечное имя, имя второго по рождению близнеца, который появился на свет, держась за пяту первого близнеца Исавы. По этимологии, которая обыгрывается в тексте «Бытия», имя Иаков возникло в результате метонимического переноса и в переводе означает «пята», «подошва», что стало также нарицанием плута, пройдохи, хитреца. Не раз Иаков оправдывал свое имя, сначала купив право первородства у голодного Исавы за хлеб и чечевичное варево (похлебку), потом обманом получив благословение умирающего отца, затем хитростью, а подчас и коварством устраивая свои дела и умножая богатство – свое и двенадцати сыновей. Не имевший первородства, он обрел старшинство и отцовское благословение. После поединка с Богом, длившегося всю ночь, в результате которого Бог не одолел Иакова, а сам Иаков охромел, тот получил от Гос пода новое имя Израиль («борющийся с Богом») и благословение. Иаков – легендарный предок, положивший начало «двенадцати колен Израиля», в том числе и Иосифа Прекрасного. Проблематика этого эпизода книги «Бытие» любопытна сама по себе, но в данном случае библейский текст представляет интерес с двух точек зрения – как один из близнечных мифов и как сюжетный архетип «Двойника».
Как в архаичных, так и в современных сюжетах о близнецах выражена идея двоичности мира, вариантности человеческой судьбы, двойственности души. В поэтике «близнечных» сюжетов широко представлены поляризация героев, идей, вариантность художественных решений одной проблемы, используются традиционные сюжетные осложнения – подмены, путаница, перипетии. Особенно активно эти возможности «близнечных» сюжетов осваивались в комических жанрах преимущественно в развлекательных целях, но уже в романтическую эпоху «близнечные» сюжеты приобрели философское и нередко трагическое значение.
«Близнечная» тема символически означена не только в имени героя, но и в пространстве повести. Двойник не случайно появляется на набережной Фонтанки, в районе однотипных (во времена Достоевского совершенно подобных) «мостов-близнецов», архитектурным завершением и обобщением которых стал Аничков мост – мост братьев-близнецов Диоскуров, украшенный их скульптурными группами – композициями укротителей коней (см. об этом: Федоров 1974, 43–46; Захаров 1985b, 89–90). Так семантика реального пространства вводит в «петербургскую поэму» еще один близнечный миф – миф о братьях Диоскурах.
Обычно авторы как-то объясняют появление двойников в своих произведениях. Чаще всего они предстают «игрой случая» (поразительное внешнее сходство незнакомых людей) или «игрой природы» (близкие родственники, близнецы).
Достоевский сделал «близнечную» тему условной и фантастической, придал ей смысл, почерпнутый из романтической литературы: двойник – враг, герой с противоположными установками и устремлениями.
То, что оба Голядкина, два Петровича, названы одним именем – Яков, имеет символический смысл. Они оба Яковы в буквальном смысле: оба не имеют «первородства», оба хотят достичь успеха в жизни, но разными путями: один – «благородным образом», второй – « подлым расчетом ». У них нет не только «первородства», но, по-видимому, и «высокородия» – у них «темное прошлое»: оба появились в Петербурге неизвестно откуда, жили неизвестно где и как. Между ними возникает «соперничество», в результате чего «младший» подменяет «старшего» в социальной жизни.
Братья Диоскуры, мимо скульптур которых проезжали и пробегали Голядкины, – сыновья Зевса. Чьи «сыновья» Голядкины, указывает их отчество. В «Дневнике Писателя» за 1877 год Достоевский назвал себя и своих современников «птенцами гнезда Петрова», вспомнив слова Пушкина из поэмы «Полтава». «Детьми» Петра, Петровичами, являются многие герои Достоевского. Они – наследники проблем, возникших по умыслу и без умысла Петра I: двух столиц, «табели о рангах» и проч. Петровские реформы – та почва, которая питает коллизии «Двойника».
На этот исторический подтекст указывает и фамилия двух Яковов Петровичей – Голядкины. Пространственная оппозиция «Измайловский мост – Шестилавочная улица» закреплена в многозначительной оппозиции фамилий «Голядкин – Берендеев», связанных, как установил В. Н. Топоров, с преданиями о начале Москвы (село Кучково, будущая Москва, располагалось между двумя «жилыми урочищами»: Голядь и Берендеево) (Топоров 1982, 128). А если иметь в виду, что Петербург был политическим двойником и историческим соперником Москвы, то и это совпадение не будет случайным.
Фамилия бывшего благодетеля господина Голядкина – статского советника Олсуфия Ивановича Берендеева, вознагражденного за усердную службу «капитальцем, домком, деревеньками и красавицей дочерью», образована от названия тюркского племени берендеи («черные клобуки», каракалпаки).
Не только фамилия, но и имя Берендеева указывают на тюркские корни этого зловредного для господина Голядкина рода. Имени Олсуфий нет в православных святцах. Нет его и в других ономастиконах. По-видимому, оно образовано Достоевским от фамилии известного дворянского рода Олсуфьевых. Вполне возможно, Достоевский решил, что Олсуфьевы – фамилия, образованная от имени, хотя скорее всего, от прозвища: аль-суфи – мудрый в переводе с арабского (указано З. К. Тарлановым). Олсуфьевы – один из вариантов написания этой фамилии (другие варианты: Алсуфьевы, Алтуфьевы, Олсуфьевы). Из них самый красноречивый вариант – Алсуфьевы; ср.: «мы имеем сведения конца XVII века о Стрелецком Сотнике Михаиле Алсуфьеве (Арх. Минист. Юст.), пропущенном и неизвестном Олсуфьевскому древу» (Матерьялы к истории рода Олсуфьевых 1911, 4; ср.: Веселовский 1974; Б. О. Унбегаун неубедительно возводит фамилию Олсуфьев к греческому имени Евсевий. – Унбегаун 1989, 49; А. А. Архипов, возражая ему в комментариях к книге, столь же неубедительно называет другое имя – Еупсихий (Евпсихий). – Там же, 332).
Введя символические означения «внутренней темы» повести, Достоевский перевел «близнечную» тему на новый уровень художественного осмысления, историко-культурные истоки и социально-психологический смысл двойничества.
Криптограммы, символы, аллюзии, цитаты, реминисценции – литературная игра гения. Она адресована «дилетантам», как говорили в девятнадцатом веке, – знатокам и любителям поэзии.
Впрочем, читателю «Двойника» не обязательно разгадывать криптограммы Достоевского. Достаточно было просто читать. Все сказано самим произведением.
Создание коллизии «Голя дкин-двойник» – постановка философской проблемы. Как философскую проблему, их оппозицию можно осознать по-разному. Одинаково правомерно, на наш взгляд, рассматривать ее как проблему ценности человеческой личности (в ее традиционной, еще «гофмановской» трактовке коллизии двойников), и как проблему, связанную с раздумьями молодого писателя о судьбах России (тут у истоков «Петербургской поэмы» Достоевского стоят «Петербургские повести» А. С. Пушкина «Медный всадник» и «Пиковая дама», поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души», его «петербургские повести»). Точнее, однако, рассматривать эти проблемы в единстве, в их взаимной обусловленности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: