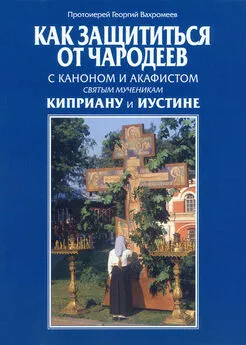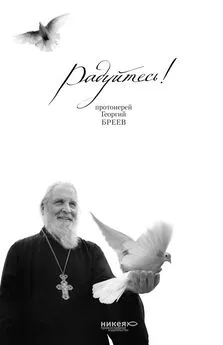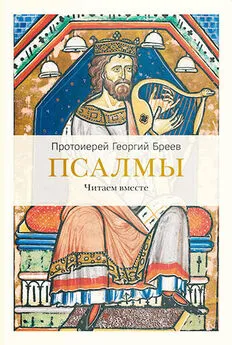Протоиерей Георгий Ореханов - Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы
- Название:Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-91802-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Протоиерей Георгий Ореханов - Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы краткое содержание
Поэтому тема «Толстой и Церковь» вернулась в нашу литературу. Новая книга проректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерея Георгия Ореханова безусловно привлечет внимание тех, кому небезразличны пути как общественного, так и личного духовного возрастания.
Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но Л. Толстой был не только выдающимся читателем, но и выдающимся самоучкой. Различными способами он старался компенсировать отсутствие систематического академического образования, проявлял большой интерес к европейской литературе, философии, богословию, причем даже в совершенно неподходящее для подобных штудий время – находясь в действующей армии на Кавказе и в Крыму. Этим штудиям способствовало отличное знание французского и немецкого языков – уже в молодости Л. Толстой свободно читал и говорил на них, а к старости количество иностранных языков, которыми владел Л. Толстой, увеличилось.
В более зрелом возрасте будущий писатель, кроме любимого Руссо, внимательно изучает произведения Канта, Шопенгауэра, Вольтера, Паскаля, богословов либерального лагеря (Э. Ренана и Д.-Ф. Штрауса и многих других). По всей видимости, никакой другой современник Л. Н. Толстого в России не был так подробно знаком с основными религиозными и социальными теориями Западной Европы и Нового мира и не вел с ними такую оживленную дискуссию. Быть может, за исключением Н. Н. Страхова, но именно поэтому, возможно, писатель и философ так сблизились.
Дневник Л. Н. Толстого
Теперь нечто очень важное. Результаты размышлений над прочитанным писатель заносил в дневник, первая запись в котором относится к 1847 г., а последняя сделана в 1910-м, за несколько дней до смерти. Вести дневник 63 года (с некоторыми не очень значительными перерывами) – это уже необычно даже для усердных обитателей XIX века. В этом отношении (по продолжительности ведения записей и объему текста) рядом с Толстым могут быть поставлены очень немногие (в качестве примера можно привести дневники отца Иоанна Кронштадтского или военного министра эпохи Александра II Д. А. Милютина).
Для графа Л. Толстого дневниковые тетради имели совершенно особое значение. Это была уникальная творческая лаборатория, лучше сказать, своеобразный колдовской котел, в который попадали в качестве компонентов нового зелья очень разнородные элементы: дневные впечатления, наблюдения над явлениями природы, пейзажные зарисовки, денежные счета, размышления о физических законах, вычитанные мысли и цитаты, довольно однообразные правила жизни, упоминания об интересных встречах и многочисленных (до женитьбы!) любовных приключениях, пословицы и поговорки. Это были не только переживания и сомнения, но, что очень важно, философские и религиозные гипотезы, которые проходили проверку временем.
Можно сказать больше. Дневник стал для Толстого способом самоидентификации, осязаемым символом самостояния, священной Книгой Жизни. Прав П. В. Басинский, указывая, что писатель, постоянно пасуя перед супругой и уступая ей все, не уступил только дневник [69] Басинский П. В. Лев Толстой: бегство из рая. М., 2015. С. 333.
.
Дневниковые записи существенным образом дополняют художественные и публицистические произведения писателя. Последние адресовались всем, дневник – только себе (во всяком случае, до того момента, пока В. Г. Чертков не предложил Толстому копировать и дневники и тем самым создал очень опасный прецедент). Именно поэтому так интересны, например, записи 1891 г., когда стала широко обсуждаться «Крейцерова соната» – в дневнике Толстой формулирует нечто, о чем никогда не говорит при публичном чтении (членам семьи, гостям). Очень точно пишет об этом В. В. Бибихин: «Здесь пространство неопределенности, рыскания, брожения, нерешенности, нерешаемости» [70] Бибихин В. В. Дневники Льва Толстого. С. 66.
.
Из сказанного следует важный вывод. Если дневники – это действительно лаборатория, полигон, собрание набросков, то не только в области художества . Уже в этом последнем отношении записи Л. Толстого крайне интересны; читая их, понимаешь, почему Мережковский назвал его «тайнозрителем плоти». Кажется иногда, что писателю приоткрываются те природные законы, которые недоступны обычному глазу – поведение животных, рост цветов, смена времен года: «Здесь, в этой живописи, он ходит в правде как рыба в море» [71] Бибихин В. В. Дневники Льва Толстого. С. 253.
. Но важно, что этим же методом Л. Толстой пытается анализировать и законы духа – он пробует, как рыба в море, ходить в правде и там, где речь заходит о религиозном. Те определения веры, Бога, «я», своего места в мире, которые он сегодня дает, а завтра может отвергнуть, превращают дневник Л. Толстого в совершенно особый документ по истории религиозности XIX века.
И в этих записях обращает внимание еще одно, может быть, самое главное обстоятельство. Интеллектуальная биография Л. Толстого невероятно динамична. Это не значит, что он менял свои взгляды каждый день или каждый год. Это значит, что его религиозно-философские взгляды далеко не всегда поддаются воспроизведению и тем более классификации с помощью стандартных процедур. Более чем за 50 лет (т. е. в период с конца 1850-х гг. до 1910 г.) они видоизменились. Наверное, у каждого, кто внимательно читает дневник Л. Толстого, в какой-то момент возникает раздражение от неопределенных, текучих, размытых формулировок. Писатель как будто не находит нужных слов, а если находит их сегодня, то может целиком отречься от них завтра или через неделю. За этой работой стоит не только беспомощность, которая всегда сопровождает любой духовный труд: искать адекватные выражения для опыта трансцендентного всегда трудно. Но здесь присутствует также и глубокая неудовлетворенность, которая в каком-то смысле была для Л. Толстого спасительным якорем. Ведь если бы он закоснел в каких-то окончательных формулировках, то его «богословие» не могло бы вызвать ничего, кроме тоски и сожаления. А именно такое впечатление часто складывается от чтения его философских трудов.
Это свойство мысли Л. Толстого хорошо заметил И. М. Ивакин, домашний учитель детей писателя, находившийся одно время под сильным влиянием толстовских идей, но впоследствии отошедший от Л. Н. Толстого и вернувшийся в Православную Церковь. В своих воспоминаниях он много пишет и о учении Толстого в целом, и о его способах интерпретации Евангелия.
 «…и в прежнее время <���…> я не очень верил в правоту толстовских толкований Евангелия, являл, по словам самого Л. Н-ча, только “холодное сочувствие”, а теперь и вовсе разуверился – все в учении его как-то неясно, неопределенно, да во многих случаях он и сам не следует, чему учит. Все это заставляет видеть в нем человека только умственного, который быть руководителем в жизни не может. Он и сам, видимо, опутан сомнениями и страданиями, в сущности, не зная, как ему быть и что делать, а издали производит, конечно, бессознательно, такое впечатление, как будто сомнений нет и все для него ясно, и люди, помимо, впрочем, его воли, поддаваясь этому, идут к нему для решения недоумений и недоразумений».
«…и в прежнее время <���…> я не очень верил в правоту толстовских толкований Евангелия, являл, по словам самого Л. Н-ча, только “холодное сочувствие”, а теперь и вовсе разуверился – все в учении его как-то неясно, неопределенно, да во многих случаях он и сам не следует, чему учит. Все это заставляет видеть в нем человека только умственного, который быть руководителем в жизни не может. Он и сам, видимо, опутан сомнениями и страданиями, в сущности, не зная, как ему быть и что делать, а издали производит, конечно, бессознательно, такое впечатление, как будто сомнений нет и все для него ясно, и люди, помимо, впрочем, его воли, поддаваясь этому, идут к нему для решения недоумений и недоразумений».
Интервал:
Закладка: