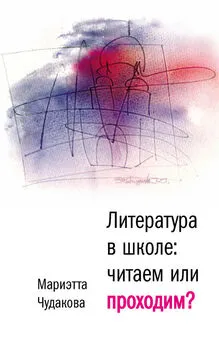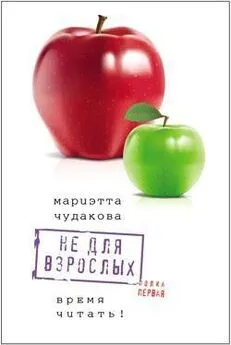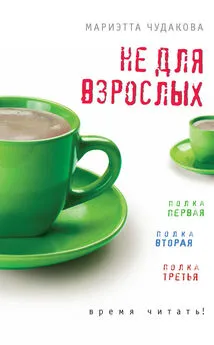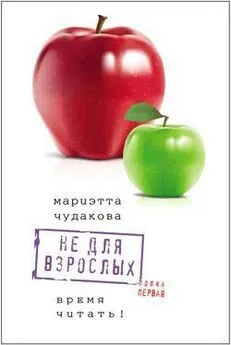Мариэтта Чудакова - Литература в школе. Читаем или проходим?
- Название:Литература в школе. Читаем или проходим?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Время
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-1084-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мариэтта Чудакова - Литература в школе. Читаем или проходим? краткое содержание
Литература в школе. Читаем или проходим? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«…Сплошной извечный разбор пейзажей-портретов, которые только и делают, что отвращают школьников от чтения. У меня в классе 7–8-м было стойкое убеждение, что главное в книге – это эти описания, потому что больше ничего не видела. Ужасно»,
«Действительно ужасно. А у нас это были бесконечные “Что хотел сказать автор”»,
«…Мы говорили только о пыльном плаще Кирсанова или об одежде Кукшиной…»,
«Кошмар. Помню, читали “Обломова”, так учительница чуть не довела меня до слез, когда приказным тоном требовала объяснить, что означают его халат и диван, а мой ответ, что Обломов из-за своей лени и мечтательного характера совсем не интересуется бытом, к тому же скуп, ее не устраивал».
Вот как долго помнятся нанесенные в школе при приближении к классике обиды… Пора бы принять это к сведению!
…Что же – так вовсе ничему и не учить на уроках литературы?..
Отчего же? В литературоведении, например, есть небольшой набор понятий, о которых получающий среднее образование должен иметь представление.
Прежде всего – что такое искусство вообще, литература – в частности. Необходимо хотя бы приблизить юное существо к пониманию такого потрясающего явления в жизни человечества. С этим соприкасается и очень сложное для понимания, но необходимое, на мой взгляд, для человека со средним образованием представление о соотношении личности поэта (биографии) и его творчества . К этому мы еще обратимся.
Далее – что такое эпос, драма и лирика , жанры прозаические и поэтические… Ода, баллада, элегия, поэма, сонет… Юмор, сатира, ирония, гротеск. Сравнение, метафора, метонимия, гипербола…
Что такое прототип (сложнейшее понятие, про которое многие думают, что оно очень простое) – прояснить нужно хотя бы потому, что подросткам обычно интересно, «кого изобразил» писатель. Это имеет к тому же прямое отношение к самому феномену литературного творчества.
Входит в набор необходимого минимума филологических знаний и уменье различить фабулу и сюжет . Это различение закрепилось в 20-е годы, и нет смысла от тогдашних формулировок (см. хотя бы «Теорию литературы» Б. В. Томашевского) отказываться.
Но и здесь нужна ясность – вряд ли обычный, не изощренного ума подросток воспримет расплывчатые и многословные формулировки того же самого учебника для 9-го класса:
Фабулой называют совокупность событий и происшествий в их взаимной внутренней связи, развивающейся в хронологической последовательности.
Сюжет – та же совокупность событий, происшествий, а также мотивов и стимулов поведения в их композиционной последовательности.
Ведь наша с вами задача – не высказаться позаковыристей. Наша цель – помочь учащемуся усвоить некие новые для него понятия, которые помогают говорить о литературном произведении, может быть даже – лучше понимать, что такое литературное творчество, о котором, повторим, именно в школе надлежит получить некоторое представление.
И, наверно, стоит убрать все слова, утяжеляющие формулировку, но не добавляющие смысла, – оставить только костяк, удобный для понимания и запоминания:
Фабула – хронологическая последовательность событий, происходивших в произведении.
Сюжет – способ авторского рассказа об этих событиях (роман может начинаться, например, со смерти героя). Его же называют иногда композицией.
…Итак – давать представление о сути литературного творчества.
«Какую же цель преследовал Лермонтов композицией романа (порядок расположения частей, событий, эпизодов в избранной автором последовательности)?
Одна из таких целей состояла в том, чтобы снять напряжение с происшествий и приключений, т. е. с внешних событий, и переключить его на внутреннюю жизнь героя, усилив внимание читателя к ней».
Так, когда речь идет о дуэли Печорина с Грушницким, мы уже знаем о смерти Печорина, возвращавшегося из Персии, – т. е. знаем, что на дуэли он останется жив. Поэтому
«напряжение к этому важному в жизни героя эпизоду (не совсем по-русски – «напряжение к…», да не о том сейчас речь. – М. Ч. ) снижено. Но зато повышено напряжение к событиям внутренней жизни Печорина, к его размышлениям, к анализу собственных переживаний» (нет, раздражает все-таки этот неуместный предлог «к»…).
Казалось бы, по сути верно? Мы получили ответ про цель?
Нет, неверно. Потому что неверно задан сам вопрос.
Готова согласиться с тем, как оценивается здесь художественный результат сюжетных манипуляций. Но говорить можно и нужно именно о результате , а не о целях, которые преследовал автор. Просто потому, что узнать эти цели нам не дано .
Сказано Блоком в его последнем публичном выступлении в феврале 1921 года в Пушкинском доме:
«Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны …».
Ни конечные цели, ни локальные. Нет у нас с вами окошечка, чтобы заглянуть в творческое сознание. И не надо соблазнять малых сих предположением, будто они могут судить о цели , которую в том или другом случае преследовал Лермонтов, – мы можем говорить лишь о творческом результате . О том, что получилось , как именно воздействует на нас построение «Героя нашего времени».
Настаиваем, что разница в постановке вопроса – существенна: ведь правильно поставленные вопросы приближают подростка к пониманию самой сути творчества. Топорные же, огрубленные – удаляют.
И даже можно отчасти понять инициаторов образовательной реформы – в такой ситуации, когда подростки, умело пользуясь интернетом, запросто анализируют классику, не читая ее, вроде ничего другого и не оставалось, как выкинуть сочинение из экзамена на аттестат зрелости…
Так что делать?
Далее – один из возможных предлагаемых мною вариантов.
3. К русской классике ХIХ века – через Михаила Булгакова
У Михаила Булгакова, выпускника Первой Киевской гимназии, как и у арзамасского реалиста Аркадия Голикова, на дне сознания жила память о сочинениях Пушкина. И потому, по нашей версии, сон Татьяны в «Евгении Онегине» подсказал ему – скорей всего, неосознанно, – сцену встречи Маргариты с Воландом (с последующим появлением Мастера). Сцену, которая от редакции к редакции романа «Мастер и Маргарита» становится все необычнее.
Татьяна у Пушкина приняла помощь медведя – он, как известно, имеет в русском фольклоре двойную природу: и добрую, и враждебную людям. И Маргарита у Булгакова принимает помощь двойственных существ – Азазелло и Коровьева – тех, кто, принадлежа сфере демонической, могут тем не менее помогать каким-то выбранным ими самими людям.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: