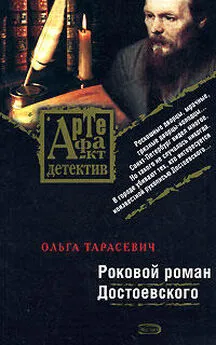Монахиня Ксения (Соломина-Минихен) - О влиянии Евангелия на роман Достоевского «Идиот»
- Название:О влиянии Евангелия на роман Достоевского «Идиот»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array ИТД «СКИФИЯ»
- Год:2016
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00025-069-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Монахиня Ксения (Соломина-Минихен) - О влиянии Евангелия на роман Достоевского «Идиот» краткое содержание
До отъезда в США и принятия сана, автор участвовал в подготовке 30-томного академического собрания сочинений Достоевского и может считаться одним из признанных специалистов по творчеству выдающегося русского писателя.
Прекрасный литературный язык, глубокий анализ, интереснейшие теории позволяют рекомендовать эту книгу как профессиональным литературоведам, так и всем тем, кто хотел бы глубже понимать творчество Федора Михайловича Достоевского.
О влиянии Евангелия на роман Достоевского «Идиот» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По всей вероятности, из-за крайне сжатых сроков работы над четвертой частью даже и эта, финальная, сцена в роман не была включена. Отношения «положительно прекрасного» героя с детьми, как отмечается всеми исследователями, касавшимися этого вопроса, получили наиболее полное отражение в «Братьях Карамазовых» (Алеша и мальчики). Записи о детском клубе впоследствии сменились краткими упоминаниями разных эпизодов с участием детей, которые автор собирался придумать (9; 364–365). Они так и не вошли в «Идиота», однако сам процесс планирования детских сцен принес свои плоды и помог писателю найти «синтез» романа. Дети – воплощение невинности, и мы узнаем из истории Мари, что Мышкина ничто от них не отделяет: он и сам – ребенок. Вот как он передает Епанчиным мнение об этом своего швейцарского доктора: «Наконец Шнейдер мне высказал одну очень странную свою мысль <���…>, он сказал мне, что он вполне убедился, что я сам совершенный ребенок, то есть вполне ребенок, что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и, может быть, даже умом я не взрослый, и так и останусь, хотя бы я до шестидесяти лет прожил (8, 63)». Возвращение к опубликованным главам романа и особенно к истории Мари, повторение в черновиках мотивов этой новеллы, осознание того, что в ней князь уже представлен мудрым ребенком, сыграли важную роль в становлении образа Мышкина. Они помогли писателю удостовериться, что мучившее его затруднение: «Чем сделать героя симпатичным читателю?» – уже в большой степени разрешено: в первой части романа ярко проявляется невинность героя, привлекая к нему сердца. Эта черта личности Мышкина настойчиво, хотя, быть может, и подсознательно, оттенена также в сцене именин Настасьи Филипповны. В ней генерал Епанчин заключает, что появление Мышкина «произошло по его невинности», а чуть позднее старичок-учитель «совершенно неожиданно» говорит, что князь имеет в сердце похвальные намерения, поскольку он «краснеет от невинной шутки, как невинная молодая девица» (8; 116, 119). Процесс осознания автором этого качества героя косвенно отразился в черновиках. 19 марта в них планируется свидание Аглаи с Ганей. Вспоминая первый визит Мышкина к Епанчиным, девушка замечает «как бы враждебно Князю»: «Ну, не совсем-то я люблю этих простых и невинных людей, которые так расчетливы и осторожны в своих шагах и так себе на уме. Он тогда приехал и у отца 25 р. на бедность принял, местечка просил, у нас ни словечка не проговорился <���…>, а у него вот какое письмо о наследстве в кармане было!» (9; 237–238). Ганя же, к удовольствию Аглаи, защищает князя. 20 марта в рабочей тетради вновь появляется упоминание о детском клубе – царстве чистых, невинных душ. Перечитав наброски, Достоевский записи следующего дня сразу начинает «разрешением затруднения »: «Если Дон-Кихот и Пиквик как добродетельные лица симпатичны читателю и удались, так это тем, что они смешны.
Герой романа Князь если не смешон, то имеет другую симпатичную черту: он !невинен!» (9, 239).
4. О причинах эволюции чувств Мышкина к Настасье Филипповне
В работах об «Идиоте» часто проводится аналогия между отношением Мышкина к Мари, которую он любит только христианской любовью, и его чувством к главной героине романа. Аналогия эта, на первый взгляд, кажется вполне оправданной. Вернувшись в Петербург после шестимесячного отсутствия, князь сам говорит Рогожину: «Я ведь тебе уж и прежде растолковал, что я ее “не любовью люблю, а жалостью”. Я думаю, что я это точно определяю» (8, 173).
Хотелось бы, однако, обратить внимание на то, что чувство Мышкина дано в развитии и в романе отражена его эволюция. Многие исследователи проходят мимо этого факта. Если к Мари, по словам самого князя, у него «вовсе не было любви», то Настасью Филипповну он «очень любил», как признается Аглае (8; 58, 362). Но постепенно, за полгода, прошедшие со дня ее первого бегства с Рогожиным, любовь эта почти умерла, как покажет дальнейший анализ текста. Однако в сердце Мышкина навсегда осталось сострадание и даже страдание «за это существо» – «целое страдание жалости» (8, 289). Но перед «сценой соперниц», когда князь охвачен пророческим предчувствием, что он может потерять Аглаю, в его сердце врывается почти ненависть к Настасье Филипповне, которой он боится. Вот этот отрывок текста: «И опять – “эта женщина”! Почему ему всегда казалось, что эта женщина явится именно в самый последний момент и разорвет всю судьбу его, как гнилую нитку? Что ему всегда казалось это, в этом он готов был теперь поклясться, хотя был почти в полубреду. Если он старался забыть о пей в последнее время, то единственно потому, что боялся ее. Что же: любил он эту женщину или ненавидел?Этого вопроса он ни разу не задал себе сегодня;тут сердце его было чисто: он знал, кого он любил…»(8, 467).
Впервые о перемене в чувствах князя со страстью и недоверием говорит Рогожин в только что упомянутой сцене встречи у него в доме:
– Знаешь, что я тебе скажу! – вдруг одушевился Рогожин, и глаза его засверкали. – Как это ты мне так уступаешь, не понимаю? Аль уж совсем ее разлюбил? Прежде ты все-таки был в тоске; я ведь видел.Так для чего же ты сломя-то голову сюда теперь прискакал? Из жалости?
И затем он произносит слова, определившие до самого конца романа сущность отношения Мышкина к Настасье Филипповне: «Вернее всего то, что жалость твоя, пожалуй, еще пуще моей любви!» (8, 177). Позднее, найдя князя в полночь в парке (после скандального эпизода в Павловском вокзале), Рогожин сообщает о Настасье Филипповне следующее: «Она-то давно еще мне про тебя разъясняла, а теперь я давеча и сам рассмотрел, как ты на музыке с тою сидел. Божилась мне, вчера и сегодня божилась, что ты в
Аглаю Епанчину как кошка влюблен. Мне это, князь, всё равно, да и дело оно не моё: если ты ее разлюбил, так она еще не разлюбила тебя» (8, 304).
Разграничению в чувствах князя к Настасье Филипповне и Аглае способствовали раздумья Достоевского о введении в роман сцены «прощения во храме», вдохновленной евангельским эпизодом. Думая о проблемах христианской этики, Достоевский – ив период работы над «Идиотом», и позднее – особенно выделял и даже абсолютизировал сострадание и всепрощение как высшие ее проявления. Об этом свидетельствуют многие страницы его великих романов, «Дневника писателя» и рабочих тетрадей с подготовительными материалами к ним. Так, проясняя главное во «взгляде на мир» своего героя, автор записывает в черновиках к «Идиоту»: «…он всё прощает, видит везде причины, не видит греха непростительного и всё извиняет» (9, 218). В набросках ко второй части основное убеждение князя выражает афористическая запись: «Сострадание – всё христианство» (9, 270). Эта мысль приобрела еще большую значительность в окончательном тексте: «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества» (8, 192). Более того, и в черновиках, и в окончательном тексте есть места, ясно говорящие о том, что во всепрощении своем герой Достоевского отступает даже от Евангелия, словно пытаясь идти дальше самого Христа… Первоисточником, от которого «отклонялся» писатель, было четвертое Евангелие. Я позволю себе остановиться на этом подробнее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
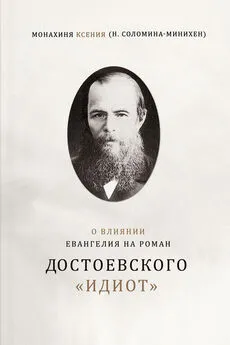
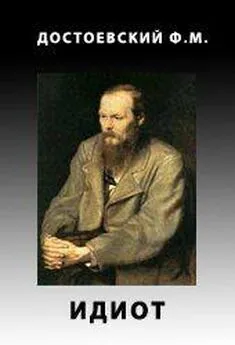


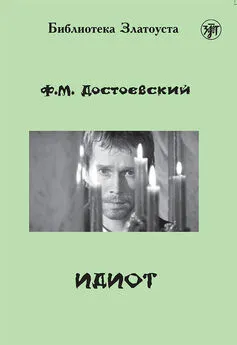
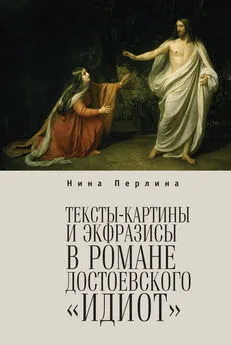
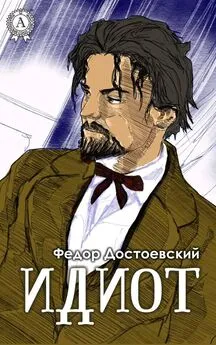
![Федор Достоевский - Идиот [litres]](/books/1095490/fedor-dostoevskij-idiot-litres.webp)