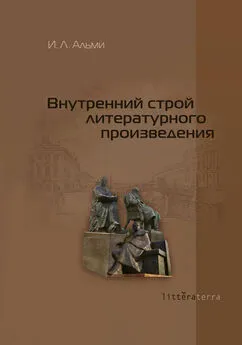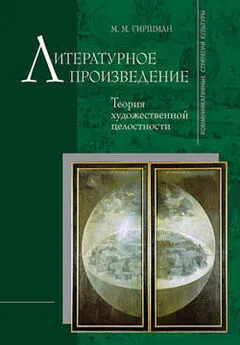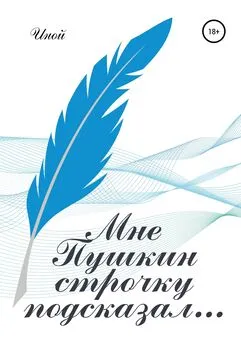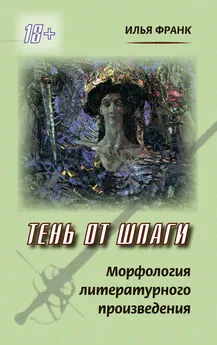Инна Альми - Внутренний строй литературного произведения
- Название:Внутренний строй литературного произведения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array ИТД «СКИФИЯ»
- Год:2009
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-903463-18-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Инна Альми - Внутренний строй литературного произведения краткое содержание
Деление на разделы соответствует жанрам произведений. Легкий стиль изложения и глубина проникновения в смысловую ткань произведений позволяют рекомендовать эту книгу широкому кругу читателей: от интересующихся историей русской культуры и литературы до специалистов в этих областях.
Все статьи в широкой печати публикуются впервые.
Внутренний строй литературного произведения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И у Пушкина, и у Баратынского стихотворения отличаются той специфической четкостью, которую порождает симметрия контрастов. Но у Пушкина центральное противопоставление, отделяя образ героини от фона, сообщает ему своеобразную зримость – аналог жизненной конкретности (показательное выражение – «стремится до утраты сил»).
Миниатюра Баратынского, в отличие от пушкинской, воспринимается как система многих, сложно переплетающихся сопоставлений. Здесь красота не предполагает зримости; ее подменяет собой безупречная стройность интеллектуального анализа.
Динамика, присущая такому анализу, далека от жизненной конкретности. Фигуры финала произведения – Магдалина и русалка— не лица в точном смысле слова, но воплощения полярных страстей, живущих в пределах одной души.
Правда, иногда у Баратынского на пространстве выделенной нами жанровой формы встречаются и показательные исключения: в этих случаях общее понятие становится предметом прямого изображения. Такова, к примеру, «Надпись» 1826 г. – миниатюра, в центре которой своеобразный портрет разочарования. Первое ее четверостишие формулирует поэтическую задачу, а вместе с ней и центральную поэтическую мысль:
Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след! [113].
Зримости как таковой здесь еще нет. Но повторяется побудительное «взгляни» – слово, предвещающее непременность зрительного впечатления. Его реализует второе четверостишие. Оно воссоздает пейзаж, исключительный в своей редкостности, – застывший водопад:
Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид [113].
Символ оформляет собой парадокс – возникает образ пустой формы явления – вид движения, лишенного его сущности, недвижимого движения. В нем таится источник необычайной зрелищности представленного.
В стихотворении этот образ выполняет роль второй чаши весов в системе сравнительного параллелизма. Налицо – необходимая в условиях такой конструкции уравновешенность частей. Правда, можно было бы отметить, что его звенья по своей художественной функции не вполне идентичны. Второе дополнительно: оно призвано иллюстрировать мысль, в общем плане уже обозначенную. Дополнительность, однако, восполняется тем, что именно на пространстве второго звена имеет место акцентный удар – point, совмещающий в себе смысловой центр и итог произведения.
Туже структуру поэт варьирует: он обращается к ней не только в целях создания портрета. Параллелизм Баратынскому представляется уместным, когда речь идет о выражении некой бесспорной истины, тезиса, требующего скорее формулирования, чем анализа (как в стихотворении «Чудный град порой сольется…»). Поэтическое исследование, как правило, предполагает у него миниатюру иной структуры. По большей части она являет собой прямое размышление – рассуждение, разумеется, предельно сжатое.
Стихотворения этого типа появляются у Баратынского во второй половине 20-х годов. Преобладающее положение они сохраняют и в поздней его лирике, неуловимо меняясь вместе с нею. Главное в этих изменениях – преобразование качества мысли, обогащающейся за счет роста эмоциональной стихии. Она пронизывает собой интеллектуальное начало вещи, осложняя (иногда неожиданно!) ее логический рисунок. Этот тип поэтической речи реализует одно из самых заветных творений Баратынского – стихи о «далеком потомке»:
Несмотря на чрезвычайную известность этого текста, решаюсь привести его полностью.
Мой дар убог, и голос мой негромок,
Но я живу, и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать, душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я [137].
Осип Мандельштам уподобил это произведение посланию в будущее, доверенному волнам океана. Строки Баратынского, – считает он, – одушевляет чувство «глубокого и скромного достоинства» [58] Мандельштам О. Стихотворения. Проза. М., 2002. С. 422.
. Именно такое, вполне трезвое и точное понимание масштаба собственной ценности позволяет поставить эту внешне непритязательную миниатюру в ряд творений, воплощающих тему памятника. Исследуя стихотворение Баратынского в контексте этого ряда, С. Г. Бочаров проницательно определяет суть его потрясающей своеобычности. «Поэт негромкого голоса» (а именно таковым Баратынский себя почитал) – в отличие от прославленных художников – видит в факте памяти читателя-потомка событие, радующее своей возможностью, но отнюдь не безусловное. Соответственно, по мысли интерпретатора, надежда на грядущее признание не связывается у автора с пафосом заслуги; «обоснованием здесь являются не заслуги, а самое бытие человека-поэта, оно само по себе любезно и ценно, а не те или иные его характеристики <���…>» [59] Бочаров С. Г. О художественных мирах. М., 1985. С. 73.
.
Отсюда – необычная для миниатюры тональность: отсутствие словесной игры, свобода от манеры резюмирования смысла. Поэтическая мысль будто складывается в присутствии читателя. В ней нет статуса предрешенности. Стихотворение строится как вереница следующих друг за другом суверенных суждений. Конъюнкция не предполагает необходимости умозаключения. Вместо него используется аналогия. Аналогия же являет собой способ мышления, предполагающий связь вероятностную. Она сообщает последним строкам миниатюры специфическую некатегоричность, а одновременно и столь же специфическую убедительность. Автор как бы полагается на читателя, вместе с ним прошедшего весь путь размышления. Вместе, – ибо сам характер чтения диктует чувство причастности к состоянию думания.
Это чтение неизбежно замедленное. Синтаксическое и стиховое членение в произведении подчеркнуто не совпадают; паузы понуждают всматриваться в сказанное. Свободны от них лишь две последние строки. Так реализует себя эффект завершенности интонационной. В финале она сказывается полно, но вне какой бы то ни было педалированности. Рассуждение естественно достигает своей конечной грани.
Поздняя миниатюра Баратынского все явственнее обнаруживает приметы протекания мысли. В его поэзии в целом увеличивается квота субъективного начала. Оно не подменяет собой начало рациональное, но существенно его трансформирует. Ради адекватной передачи момента интеллектуального переживания поэт жертвует безукоризненной стройностью своей миниатюры начала двадцатых годов. Так, в стихотворении «Все мысль да мысль! Художник бедный слова <���…>» повышенная экспрессивность речи передает зигзаги потока сознания; в произведение входят проявления диалектики души [60] См. посвященную стихотворению статью в моей книге «О поэзии и прозе». СПб., 2002. С. 206–220.
.
Интервал:
Закладка: