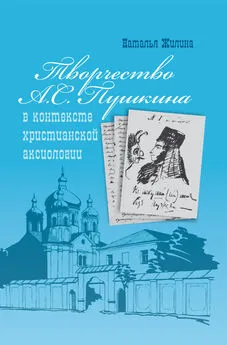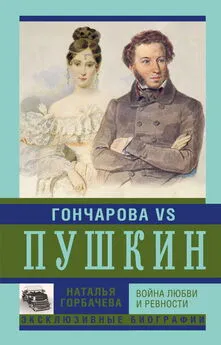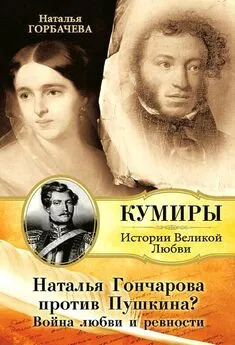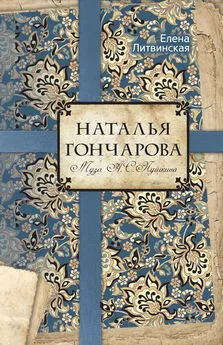Наталья Жилина - Творчество А.С. Пушкина в контексте христианской аксиологии
- Название:Творчество А.С. Пушкина в контексте христианской аксиологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ИТРК
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-88010-450-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Жилина - Творчество А.С. Пушкина в контексте христианской аксиологии краткое содержание
Книга может быть интересна и полезна филологам, преподавателям вузов, учителям русского языка и литературы в средней школе, а также широкому кругу читателей, интересующихся русской классикой.
Творчество А.С. Пушкина в контексте христианской аксиологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Душа Заремы объята жаждой безраздельного обладания любимым человеком, который при этом осознается не свободной личностью, не полноправным субъектом, а лишь объектом страсти. Обращаясь к Марии, она просит: «Оставь Гирея мне: он мой». И далее снова: «Отдай мне прежнего Гирея… Он мой» [Пушкин, 4,189-190]. Сакрализация любовного чувства ведет к аксиологической переориентации в сознании героини: воспринимая «измену» Гирея как преступление, Зарема вершит свой суд, готовая на убийство во имя самой «высокой» для нее цели – возвращения любимого. Так проявляется в героине качество, характерное вообще для романтической натуры и постоянно акцентируемое писателями-романтиками: «Личность присваивает себе права судьи и исполнителя правосудия, она сама при этом решает, что справедливо и что несправедливо, и сама формулирует кодекс возмездия» [Тураев, 239]. Невозможно не заметить, что психология любовной страсти в ее крайнем проявлении изображена здесь Пушкиным с предельной точностью. Зарема не осознает в себе духовного начала как определяющего, отсюда и ее представление о собственном предназначении. Признаваясь Марии: «Я для страсти рождена» [Пушкин, 4,189], она, по существу, произносит формулу собственной личности.
Страсть, владеющая душой Заремы, чужеродна натуре Марии, в портрете которой акцентируется иное, контрастное начало – «тихий нрав», не являющийся, однако, врожденным качеством ее натуры, что видно из ее портрета: «движенья стройные, живые» [Пушкин, 4, 182] показывают читателю природную активность, динамичность героини. Эпитет «тихий» употреблен здесь, скорее всего, в том значении, которое представлено в словаре Даля: «Тихий – смирный, скромный, кроткий» [Даль, 4, 407]. Эти же качества отметил в героине и Белинский, определив ее как «существо кроткое, скромное, детски благочестивое» [Белинский, 6, 317]. Чистота и безгрешность, целомудрие Марии, небесное начало ее души передаются в авторской характеристике словосочетанием «невинная дева» [Пушкин, 4, 190]. Невинный, по Далю, – «непорочный, чистый, пречистый, не знающий [ни] греха, ни зла, не могущий и помышлять о них» [Даль, 2, 505]. В описании героини с самого начала настойчиво акцентируется неземное начало, присущее ей. Даже бытовая, казалось бы, деталь ее повседневного досуга в родном доме, изображенном как идиллическое пространство, – названная волшебной арфа наполняется символическим смыслом. Символизируя «некий заоблачный мир, высоту и силу чувств, хвалу Богу, небесное царство, благость, молитву, лестницу в небо», арфа (гусли) «в иудейско-христианской традиции была инструментом, с помощью которого возносилась хвала Господу… и непременным атрибутом царя Давида» [Копалинский, 9].
Кульминационная в поэме ситуация встречи центральных героинь отчетливо выявляет их тяготение к противоположным аксиологическим полюсам. Пребывание в комнате Марии открывает Зареме существование каких-то недоступных ей до этого ценностей: иной гармонии, иной любви – той, которой «крест символ священный»:
Вошла, взирает с изумленьем…
И тайный страх в нее проник.
Лампады свет уединенный,
Кивот, печально озаренный,
Пречистой Девы кроткий лик
И крест, любви символ священный.
В свою очередь, Марии мир любовной страсти, неведомый ранее («Она любви еще не знала…» [Пушкин, 4, 183]), открывается через переживания Заремы:
Невинной деве непонятен
Язык мучительных страстей,
Но голос их ей смутно внятен,
Он странен, он ужасен ей.
Восприятием Марии слову страсть возвращается его первоначальный смысл: «страданье, муки, маета, мученье, телесная боль, душевная скорбь, тоска; душевный порыв к чему, нравственная жажда, жаданье, алчба, безотчетное влеченье, необузданное, неразумное хотенье» [Даль, 4, 336]. Жизнь предстает перед ней теперь как переплетение страстей, как состояние постоянной борьбы, где сегодняшнему победителю завтра уготована участь побежденного. Пример Заремы показывает ей, что вовлеченный в эту игру страстей человек, безумствуя, становится игрушкой в руках слепых и темных сил, Рока, определяющего в каждый конкретный момент его судьбу. Если принципом жизни Заремы является непрестанное участие в борьбе не только с людьми, но и с высшими силами, то Марии истина видится в полном отказе от этой борьбы во имя совершенно других, несравнимо более высоких для нее ценностей.
Основной доминантой психологической характеристики Марии является отмеченное автором уникальное качество ее внутреннего мира – «тишина души» [Пушкин, 4,183]. В словаре Даля одно из значений слова тишина – «мир, покой, согласие и лад» [Даль, 4, 407] – толкуется в соответствии с христианским восприятием, где состояние тишины, противоположное мятежу, бунту, есть показатель гармонии [3] Не случайно в православных молитвах Христос назван «Начальником тишины», а к ангелу-хранителю верующие обращаются с просьбой: «Устави сердце мое от настоящаго мятежа… и настави мя чудно к тишине животней».
. Именно это качество проецируется на все, что окружает Марию. Особая, одухотворенная атмосфера ее комнаты (где тишина характеризует не только физическое состояние, как тишина гарема или ночного Бахчисарая) чужеродна всему остальному пространству, где царит стремление к неге и наслаждениям, и противостоит ему:
Гарема в дальнем отделенье
Позволено ей жить одной:
И, мнится, в том уединенье
Сокрылся некто неземной.
Там день и ночь горит лампада
Пред ликом Девы Пресвятой…
‹…›
И между тем, как все вокруг
В безумной неге утопает,
Святыню строгую скрывает
Спасенный чудом уголок.
Ситуация узничества, чрезвычайно распространенная в романтической литературе и включающая в себя традиционную оппозицию плен – свобода, разворачивается здесь парадоксально-противоположным образом: «отдаленная темница», будучи локусом плена, при возможности вечного в ней уединения становится в сознании пленницы пространством свободы. Уединенная и отграниченная от общего пространства гарема комната Марии, «спасенный чудом уголок», не просто наполнена церковными реликвиями, но показана как место присутствия Святого Духа. По слову автора,
Там упованье в тишине
С смиренной верой обитает…
Упование на Бога, полное и безраздельное, безоговорочное вручение себя Ему и есть высшая степень смирения, доступная человеку и существующая как наиболее полная и совершенная форма выражения его любви к Творцу и веры в Него. Высокая, небесная сущность души Марии имеет в своем основании религиозное чувство, настолько глубокое, что даже самая трагическая ситуация не вызывает в ней смятения и бунта, а только лишь желание предать себя и свою судьбу воле Божией.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: