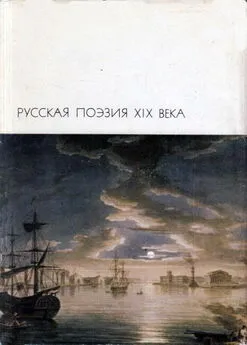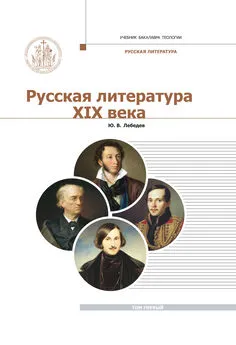Елена Толстая - Игра в классики Русская проза XIX–XX веков
- Название:Игра в классики Русская проза XIX–XX веков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0855-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Толстая - Игра в классики Русская проза XIX–XX веков краткое содержание
Игра в классики Русская проза XIX–XX веков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Одним таким шаблоном модернистских описаний Венеции как «руин, прекрасных в своем умирании» мы обязаны «Паломничеству Чайльд Гарольда» Байрона, где Венеции посвящена песнь IV: там говорится как бы об Италии вообще, но именно по поводу Венеции:
…
Even in thy desert, what is like to thee?
Thy very weeds are beautiful, thy waste
More rich than other climes’ fertility;
Thy wreck a glory, and thy ruin graced
With an immaculate charm which cannot be defaced [46] Byron, George Gordon . The Works of Lord Byron. London; New York: Coleridge; Scribner. Vol. II. 1899. Р. 274. «Земной эдем, обитель красоты, / Где сорняки прекрасны, как цветы, / Где благодатны, как сады, пустыни, / В самом паденье – дивный край мечты, / Где безупречность форм в любой руине / Бессмертной прелестью пленяет мир доныне» ( Байрон Дж. Г. Соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1974. С. 252. Пер. В. Левика).
.
Далее, в строфе XXVII, Байрон запечатлел, помимо того, роскошь романтического пейзажа, детали которого также превратятся в клише у позднейших авторов: закат солнца над морем и луна: «The moon is up, and yet it is not night – Sunset divides the sky with her», лазурный воздух: «the azure air» и голубые горы: «blue Friuli’s mountains», а в следующей строфе – глубокие оттенки пурпура: «The deep-dyed Brenta» (букв.: «глубоко окрашенная Брента»); «The odorous purple of a new-born rose» (букв.: «пахучий пурпур новорожденной розы») [47] Byron . Op. cit. Что касается пейзажной живописи у Байрона: писатель, пионер неоготики Уильям Бекфорд (1760–1844), ученик замечательного английского пейзажиста Казенса (Alexander Cozens, 1717–1786), в своем прославленном травелоге «Мечтания, путевые мысли и происшествия» (1783) пишет о лилово-зеленых волнах и перечисляет оттенки заката за тридцать с лишним лет до Байрона (чье описание относится к 1816–1817 годам) – тогда это еще не было общим местом; считается, что закат в Венеции вошел в моду отчасти благодаря именно Бекфорду.
.
Венеция как таковая у Байрона уже почти исчезла, она пуста – а потому во многом так фантастична: это волшебный город сердца («a fairy city of the heart» (строфа XVIII), который поэт населил литературными персонажами.
В отличие от энциклопедического пафоса «Чайльд-Гарольда» познавательный и туристический момент тургеневской Венеции сведен к минимуму: она вся создана из импрессионистических, совершенно субъективных пейзажей – светлого дневного и лунного ночного. Очевидным камертоном для этой субъективности Тургеневу отчасти послужила пятая глава «Консуэло» (1843) Жорж Санд – например, следующее описание Венеции:
…ночью, когда все смолкает и кроткая луна струит свой беловатый свет на каменные плиты, все эти дома разных эпох, прилепившиеся друг к другу без симметрии и без претензии, с таинственными тенями в углублениях, являют собой картину бесконечно живописного беспорядка <���…>. Все хорошеет под лунными лучами [48] Жорж Санд. Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. Л., 1972. С. 34.
.
В тексте Тургенева применительно к Венеции также упоминается кротость: «кротость и мягкость весны идут к Венеции» (3, 148); «какою голубиною кротостию дышал лазурный воздух» (3, 153). Акцентируется и тема таинственности: «как обещание близкого, не загадочного, но таинственного счастия» (3, 148); «таинственно блистали их (гондол. – Е. Т. ) стальные гребни, таинственно вздымались и опускались весла» (3, 152).
Тургенев заметил и лунный свет, «беловатый» у Жорж Санд: ему соответствует в «Накануне» «золотисто белели». Кажется, он вспомнил и ее замечание о двойной метаморфозе Венеции в лунном свете, который то неузнаваемо меняет ее, то приукрашивает. В «Накануне» то же явление выглядит так:
Ночь уже наступила, светлая, мягкая ночь. Те же дворцы потянулись им навстречу, но они казались другими. Те из них, которые освещала луна, золотисто белели и в самой этой белизне как будто исчезали подробности украшений и очертания окон и балконов; они отчетливее выдавались на зданиях, залитых легкой мглою ровной тени (3, 152).
В одной из венецианских новелл Жорж Санд, «Орко» (1837), мы находим гимн одухотворенности, легкости, танцующей природе Венеции:
…вы, воздушные колоннады, трепещущие в туманной дымке; вы, легкие шпили, вздымающиеся среди корабельных мачт; <���…> о, мириады ангелов и святых, словно танцующие на куполах, взмахивая своими мраморными и бронзовыми крыльями, когда морской ветерок касается нашего влажного чела… [49] Жорж Санд. Указ. изд. Т. 6. Л., 1973. С. 642–643.
Легкость Венеции превозносит и Тургенев: «Громады дворцов, церквей стоят легки и чудесны, как стройный сон молодого бога» (3, 148).
Жорж Санд пишет: «о, вы, дворцы, служившие некогда обиталищем фей и поныне овеянные их волшебным дыханием» [50] Там же.
. Тему волшебства включает и Тургенев: «вся несказанная прелесть этого волшебного города» (3, 148); тут надо вспомнить байроновский «fairy city» (см. выше) – fairy значит одновременно принадлежащей феям и волшебный. В тургеневской Венеции тоже «есть что-то сказочное» (3, 148), только легкомысленных французских фей тут заменяет «молодой бог» – широкая аллюзия на одновременно античные и раннехристианские истоки венецианской культуры.
Еще одним претекстом Тургенева кажется мне знаменитая трехтомная книга Джона Рескина «Камни Венеции» (1851–1853). Рескин открыл непреходящую эстетическую ценность Венеции для Нового времени. Уже в первой главе он писал о Венеции как о мираже, отражении, контуре, исчезающем в небе:
…призрак на морских песках, такая слабая – такая тихая, – такая лишенная всего, кроме своей прелести, что мы вправе сомневаться, глядя на ее слабое отражение в мираже лагуны, где тут Город, и где его Тень <���…> история, которая, несмотря на труды бесчисленных летописцев, остается неопределенным и спорным контуром, – очерченным ярким светом и тенью, как дальний край ее океана, где прибой и песчаный берег сливаются с небом [51] Ruskin John. The Stones of Venice / Ed., int. by Jan Morris. Boston; Toronto, 1981. P. 33. Ср.: Меднис Н. Венеция в русской литературе. С. 75.
.
Та же романтическая тема растворения, слияния с далью, то есть исчезновения как эстетической ценности, раскрывается и у Тургенева: она выражена во фразе об «этой улетающей и близкой дали», в упоминании вслед за тем в том же предложении «тающих красок» (3, 149). Сами слова разыгрывают здесь эффект слабеющего эха (улетающей… тающих…), как бы наглядно иллюстрируя идею угасания. В другом месте тургеневского романа лунный свет дематериализует здания: «в самой этой белизне как будто исчезали подробности украшений и очертания окон и балконов» (3, 152).
Перейдя затем к поиску собственно русских претекстов, я с некоторым удивлением убедилась, что живую пластику Венеции Тургенев по всей очевидности взял из гоголевского «отрывка» «Рим» (1841). (Вспомним – в Венецию он попал именно после полугода, проведенного в Риме, где его обращение к этому сочинению было вполне естественным.) При этом выжимку из гоголевской Италии и романтической венецианской темы он сконцентрировал на трех-четырех страницах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
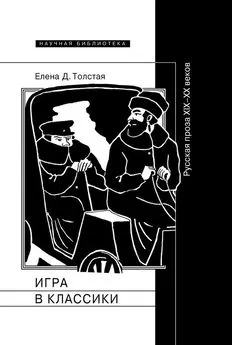

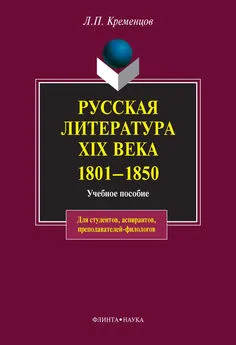


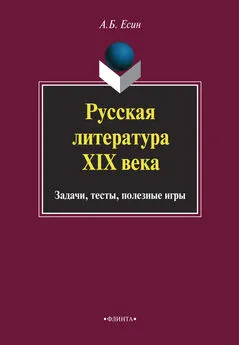
![Семен Дьячков - Прогулка в Луну [Забытая фантастическая проза XIX века. Том III]](/books/1061290/semen-dyachkov-progulka-v-lunu-zabytaya-fantastiches.webp)
![Алексей Тимофеев - Чернокнижник [Забытая фантастическая проза XIX века. Том II]](/books/1065440/aleksej-timofeev-chernoknizhnik-zabytaya-fantastiches.webp)