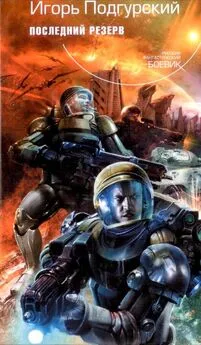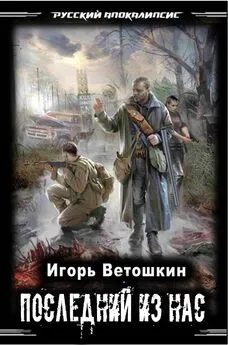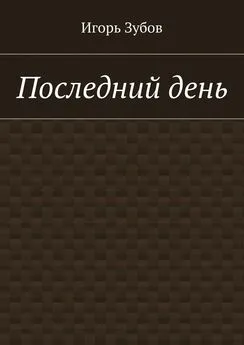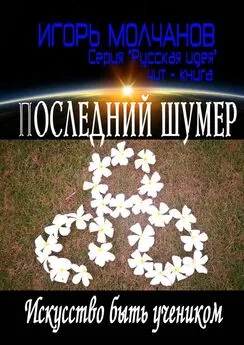Игорь Волгин - Последний год Достоевского
- Название:Последний год Достоевского
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-098761-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Волгин - Последний год Достоевского краткое содержание
Последний год Достоевского - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Особенно – в кругу литературно обедающих.
Этот круг вынужден терпеть Достоевского: не столько из-за пиетета перед ним самим, сколько из невольного уважения к его стремительно крепнущей славе. Именно на последние годы приходится бурный рост его популярности, именно в это время устанавливается непосредственная связь между ним и многосоставной читательской аудиторией. «Все алчущие и жаждущие правды, – говорит Штакеншнейдер, – стремились за этой правдой к нему; за малыми исключениями, почти все собратия его по литературе его не любили» [248] Там же. С. 456.
.
Он – чужой среди своих: в кругу известных литераторов, либеральных профессоров и талантливых адвокатов он – белая ворона. Он не вписывается в картину духовного довольства и преуспеяния: он, «человек экстремы», совсем из иного мира.
Есть что-то пророческое в столкновениях Достоевского с либеральными профессорами семидесятых годов. Он словно прозревает скорое – на рубеже двух веков – торжество «профессорской культуры»: самодостаточной, успокоенной, умеренно оппозиционной. Той самой культуры, адепты которой, удовлетворясь её действительно неоспоримыми специальными заслугами, будут брезгливо отстраняться от слишком общих проблем, поднятых отечественной словесностью, вяло сетовать на чудачества и «уклонения» Толстого и Достоевского и снисходительно похлопывать по плечу Чехова [249] Не было ли творчество Чехова – внешне «бестенденциозное» – в какой-то мере реакцией на господство в русской литературе «идеологического романа» Толстого и Достоевского? У Чехова всё «чисто идеологическое» почти без остатка растворено стихией обыденного, мелкого, повседневного. Между тем эта безосадочность чеховской прозы создавала новый тип осмысления мира – изнутри – в потоке бессобытийной, «скучной» жизни, идеологически как бы неакцентированной, «нейтральной».
.
Та «профессорская» среда, с которой имеет дело Достоевский, инстинктивно сторонится крайностей. Её вполне устраивает то, что есть (в том числе и в области общественной), желательно лишь с присовокуплением некоторых механических усовершенствований («увенчание здания»).
Записано в последней тетради: «Государство создаётся для средины… Середина… формулировала на идеях высших людей свой серединненький кодекс» [250] Литературное наследство. Т. 83. С. 676.
.
Он ставит на полях NB и семь восклицательных знаков.
Он враг этой серединной, нравственно приглушенной, «тёплой» культуры. Он входит в её избранный круг, затравленно озираясь: он здесь в явном меньшинстве. Поэтому он – вечно «закомплексован», вечно настороже: любое слово может вызвать у него повышенную, неадекватную реакцию, послужить толчком для неожиданных вспышек. И «огородничество» только предлог, чтобы выказать своё недовольство, явить неприязнь, разрядиться. Но если уж невинные сельские досуги профессора Янжула вызвали у него такой гнев, можно представить, как воспринял он застольное слово Тургенева.
В своей речи Тургенев остался верен себе: он «подставил щёку». Каждому из присутствовавших разрешалось мысленно обозначить неназванную и от этого ещё более заманчивую цель.
«Скажите же теперь, какой ваш идеал?» – этот вопрос был обращён не только к Тургеневу. Он был обращён и к самому себе. Именно на него с безоглядной смелостью попытается он ответить через год с небольшим – в Пушкинской речи.
Но в этот день, 13 марта 1879 года, в Петербурге произошло ещё одно событие. Оно осталось не отмеченным ни в воспоминаниях о тургеневском обеде, ни в каких-либо специальных работах о Тургеневе или Достоевском. Между тем представляется, что этот утренний инцидент находился в некоторой связи с тем, который имел место вечером, – в зале ресторана Бореля.
13 марта 1879 года около часу дня карета, в которой помещался шеф жандармов генерал-адъютант Александр Романович Дрентельн, быстро катилась вдоль Летнего сада. Начальник III Отделения (он сменил на этом посту Мезенцова) спешил в Зимний дворец на заседание Комитета министров. Неожиданно с каретой поравнялся элегантно одетый молодой человек верхом на лошади; некоторое время он скакал рядом, затем выхватил револьвер и выстрелил в Дрентельна.
Пуля, влетевшая в окно кареты, вылетела в противоположное окно, минуя сановного пассажира. Молодой человек попытался сделать ещё один выстрел – это ему не удалось (как выяснилось позднее, вторая пуля застряла в барабане). Нападавшему ничего не оставалось, как повернуть лошадь и скрыться (он таки ушёл от погони, бросив по дороге свой транспорт и пересев на извозчика) [251] Покушавшегося Л. Ф. Мирского (ему было около двадцати лет) схватили позже в Таганроге, судили и приговорили к смертной казни. Он написал «извинительное» письмо Дрентельну, в результате чего был помилован. Далее следует цепь странных совпадений, имеющих некоторое отношение к Достоевскому. Мирский, находясь в крепости, выдал «петропавловский заговор» своего соузника С. Г. Нечаева (тот помещался в соседней камере Алексеевского равелина) и тем самым расстроил подготовлявшийся Нечаевым побег (за всю историю крепости оттуда не удалось бежать ни одному заключённому). Нечаев (как известно, «прототип» одного из главных героев «Бесов» – Петра Верховенского) умер в одиночном заключении 21 ноября 1882 года, то есть ровно в тринадцатую годовщину убийства им другого «прототипа» романа – студента И. И. Иванова.
.
«Да послужит этот случай, – грозно заявлял подпольный листок, – первым предупреждением г. Дрентельну. Исполнительный комитет, как известно, редко делает промахи» [252] Листок «Земли и воли». 1879. 22 марта. № 2–3. «Телеграмма о новом покушении со стороны нигилятины произвела на меня сильнейшее впечатление, – пишет на следующий день в своём неопубликованном послании Достоевскому В. Ф. Пуцыкович, – но, признаюсь, ещё более сильное впечатление произвело <1 слово нрзб> безграмотство правительственной телеграммы, из которой оказывается, что Др<���ентельн>, гнавшись за преступником, сохранил полное присутствие духа! А что же было бы, если бы преступник, обернувшись, погнался за ним, Дрентельном?.. Десяток строк не умеют составить как следует» (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29828 CCXI. Д. 10. Письмо от 14 марта 1879 г.). Интересно сравнить это правительственное «безграмотство» с другим, допущенным в обстановке всеобщей паники 1 марта 1881 года. Первое официальное сообщение об убийстве Александра II начиналось словами: «Воля Всевышнего свершилась» (этот текст потом отбирался полицией). Ю. Д. Засецкая пишет Анне Григорьевне: «Каково, что выстрелили вчера в Дрентеля (sic!) два раза, разбили окно его кареты, но, слава Богу, он остался невредим. Убийца скрылся, как всегда» (Литературное наследство. Т. 86. С. 474).
.
Интервал:
Закладка: