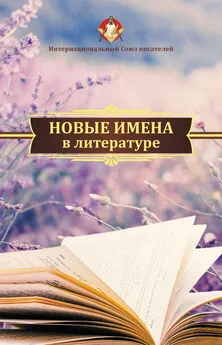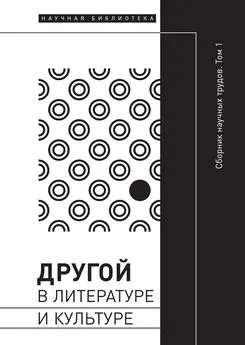Array Коллектив авторов - Как мы пишем. Писатели о литературе, о времени, о себе
- Название:Как мы пишем. Писатели о литературе, о времени, о себе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аттикус
- Год:2018
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-389-14618-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Как мы пишем. Писатели о литературе, о времени, о себе краткое содержание
Как мы пишем. Писатели о литературе, о времени, о себе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Для массового потребителя д’Артаньян осязаемее и значительнее Дюма, а зритель «Шерлока Холмса» может сегодня не знать имени Конан Дойла. Писатель богаче шахтера и знаменитее солдата, хотя создает только информационные модели, никак напрямую не связанные с жизнью.
А уж в наше электронно-компьютерное время фейков и сенсаций – не важно, что ты сделал, важно, что я написал/снял/изобразил.
Непосредственное преображение окружающей реальности все больше сменяется преображением информации, связанной с реальностью очень косвенно или никак вообще.
Доля и назначение человека во Вселенной – действовать, и любыми своими действиями, фактом существования, преобразовывать мир, окружающую реальность, энергоматерию. Литература – это преобразование информационных моделей реальности. В основе ее лежит инстинкт жизни и действия. Тысячелетия культурного нарастания опосредовали и окультурили этот глубинный первоинстинкт.
На языке синергетики: литература – это структурирование сильно неравновесных вербальных систем из аморфной словарной массы с предельным уровнем языковой энтропии. То есть. Словари дают весь запас слов по алфавиту, скажем. Где каждое отдельное слово имеет свои значения – и только. Литература строит из этой огромной кучи кирпичей стройные здания на разные случаи.
Еще раз. Работа автора-детективщика отличается от работы грабителя банков тем, что: оба создают добросовестную модель ограбления – но грабитель грабит банк и берет деньги с риском сесть, а писатель несет подробный план издателю и получает гонорар, а люди платят деньги за погружение в условную информационную модель.
Вспомните «1984». Журналист создает героя О’Гилви – и людям будет все равно, реальный герой или вымышленный: они адекватны в информационном пространстве.
В аспекте социопсихологии литературное творчество – это самореализация, самоутверждение, стремление к статусу, славе и деньгам.
В аспекте вселенской эволюции – это вкладывание личных усилий в эволюционный процесс на уровне его обеспечения эволюцией информационной.
И тогда понятней становятся аспекты традиционные. Эстетический – как стремление двинуть процесс вперед, создать нечто новое, потребность в создании гармонии и достижении идеала. Этический – как служение этой идее и потребность достичь идеала (что недостижимо в принципе) – потому что стремление к идеалу обеспечивает напряжение всех сил и возможностей, обеспечивает максимум результата, на который ты вообще способен.
А моя любимая Флэннери О’Коннор ответила на этот сакральный вопрос – «Почему вы пишете?» – проще всех: «Потому что у меня это хорошо получается».
Все это – часть устройства мира, и задумался впервые я об устройстве мира, вернее – ощутил некое смутное влечение постичь его во всех связях – тоже в Ленинграде, я помню этот момент, осенью на четвертом курсе, я ехал в трамвае в Университет, вышел на Дворцовой, вместо занятий закурил и пошел по желтой мокрой аллее Александровского сада: пытаясь поймать эту зыбкую паутину, которая связывала трамвай, Зимний, историю Петербурга и Ленинграда, весь студенческий Университет, все любови и дружбы, Советскую Власть с наукой и связь танковых колонн с русской литературой; больше я никогда не переставал думать об этом, а через семь лет я купил во дворе «бука» на Литейном «Домой возврата нет» Томаса Вулфа за пять номиналов, за пятнашку у холодняка, и когда начал читать в своей комнатке восьмиметровой на Желябова, Вулф поразил меня тем самым, томительным стремлением постичь все связи всего в жизни как общее, единое, мировой узор.
Не знаешь ты наших старожилов, сынок, сказал Мэйлмют Кид. Он всю ночь будет поить тебя, лишь бы ты сидел и слушал его рассказы. Кому вы расскажете, глупец, коменданту Бастилии? Классе в девятом меня поразили «Мои скитания» Гиляровского. Это был супермен. И заповедь серьезных ребят я запомнил: «Видел – молчи. Слышал – молчи. Знаешь – молчи». Это не о писателях? Это о том, что любые понты – дешевка. Сколько встречал я реально крупных людей – атрибутирование профессии в обиходе, любое щеголянье профессией и намеками на особые возможности – презирается как дурной тон, дешевка. «Он талантлив в жизни, во всем, что делает» – означает неполноценность и компенсаторную функцию свистка вместо двигателя. Мне доводилось знать салонных болтунов (каков банальный оборот, прошу оценить, но это именно о них).
В тридцать один год, имея две сотни отказов из всех мыслимых редакций и издательств, с тридцатью рассказами, которые… в общем, не было больше таких рассказов, я уехал в Таллин готовым человеком. Книга выходила около четырех лет: выкидывали, писали донос, слали на отшибную рецензию в Москву, грозили рассыпать набор из Комиссии по эстонской литературе при правлении СП СССР, урезали тираж и переносили сроки. Это было нормально. Я только знал: пока книга не в магазинах – ничего не считается.
И вскоре после смерти Брежнева, книга с названием «Хочу быть дворником», с заголовками рассказов «Свободу не подарят», «А вот те шиш» и прочее, где на обложке была рука с задранным большим пальцем – с Новым 1983 годом вас!
Мне выплатили 1600 рублей (нормальная зарплата за год). Я купил 500 экземпляров – рассылать и дарить всем. И пил до июня. Тихо, один, закусывая, тупо глядя в окно. Я ничего не чувствовал и ничего не хотел. Меня пробивало на бессмысленную слезу. Я повторял Лондона: «Он один был в своем углу, где секунданты даже не поставили для него стула».
Вообще – это было невозможно. И я это сделал. И, может, потому, что я абсолютно честно готов был сдохнуть, но сделать свое, ни капли пара в свисток, боясь дыхнуть на тень удачи, – Тот, Кто Наверху, милостиво протянул мне палец.
Дважды в те невыездные годы мне снился Нью-Йорк. Один раз голубые призрачные небоскребы таяли в небе, в другой – длинные деревянные молы выдавались далеко в серый океан, и волны перехлестывали через них. Я мечтал, как поднимусь по трапу самолета с легким кейсом в руках, никакого багажа, достану из кармана белый носовой платок, отряхну с туфель пыль родины и пущу его на бетон.
Может, и зря не уехал. Во-первых, в России всегда любили несчастненьких, бедных, гонимых, слабых, неудачников. Я никогда, никому, ни в каких условиях не позволял сделать себя несчастным; озлобленным, загнанным. Во-вторых, Господь Бог не создал Россию для философии, теософская эссеистика начала ХХ века названа «философским ренессансом» из самообольщения; моя философская система, соединяющая здание мировой философии, здесь редко нужна и понята толком.
…Сейчас, на пороге семидесятилетия, я удивляюсь, как много я прожил до тридцати семи и как много у меня переиздавалось книг после пятидесяти. Сорок лет я писал в среднем по одной книге в полтора года, ничем больше не занимаясь. Но когда два десятка твоих книг в разных обложках стоят в магазине рядом, ловишь себя на пожелании английского кровельщика, пролетающего мимо седьмого этажа: «Господи, хоть бы это подольше не кончалось».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: