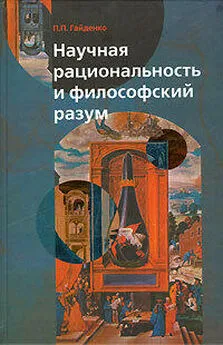Пиама Гайденко - Научная рациональность и философский разум
- Название:Научная рациональность и философский разум
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Прогресс-Традиция»
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-89826-142-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пиама Гайденко - Научная рациональность и философский разум краткое содержание
Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся проблемами философии, науки и культуры.
Научная рациональность и философский разум - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
3. Закон противоречия
С понятием сущности связан у Аристотеля важнейший логико – онтологический принцип – закон тождества, или противоречия 18. Аристотель считает его самым достоверным из всех начал. «Невозможно, чтобы одно и то же в одно и то же время было и не было присуще одному и тому же в одном и том же отношении… – это, конечно, самое достоверное из начал» (Мет., IV, 3, 1005 b 20–22).
По мысли Аристотеля, это важнейший закон бытия и мышления, он лежит в основе доказательства и составляет условие возможности всех остальных принципов мысли. «Все, кто приводит доказательство, сводят его к этому положению как к последнему: ведь по природе оно начало даже для всех других аксиом» (Мет., IV, 3, 1005b 32–33).
Формулируя закон противоречия в качестве первейшей предпосылки доказательного мышления и условия возможности истинного знания, Аристотель выступает против многочисленных форм скептицизма и релятивизма, восходящих к Гераклиту с его принципом «все течет», а затем получивших широкое распространение благодаря софистам. Как мы знаем, Платон создал учение об идеях с целью найти прочное основание для возможности истинного знания. Отвергая платоновские идеи, его ученик Аристотель ставит на их место сущности (субстанции). Не удивительно, что устанавливаемый им закон тождества тесно связан с понятием сущности. Сущность есть начало постоянства и определенности, и то же самое выражает закон тождества. «Верно по крайней мере то, что слово «быть» и «не быть» обозначает нечто определенное, следовательно, не может что-либо (в одно и то же время) обстоять так и не так» (Мет., IV, 4, 1006а 30–32).
Как известно, софисты в поисках аргументов в пользу любой точки зрения нередко опирались на многозначность естественного языка: многозначность слова служила источником поралогизмов. Это прекрасно понимал Аристотель; он подчеркивает, что такая многозначность слова только в том случае не влечет за собой невозможности адекватного познания и взаимопонимания людей, если число значений определенно(Мет., IV, 4, 1006b), ибо только в этом случае для каждого значения можно подобрать особое имя. Если же слово имело бы «бесчисленное множество значений, то речь была бы невозможна; в самом деле, не означать что-то одно – значит ничего не означать; если же слова ничего определенного не обозначают, то конец всякому рассуждению за и против, а в действительности – и в свою защиту, ибо невозможно, что-либо мыслить, если не мыслят что-то одно…» (Мет., IV, 4, 1006b 6–10).
Отсюда видно, что проблема доказательства первоначально имела прежде всего практическое значение: для аргументации в суде, в народном собрании, – одним словом, там, где стремятся победить противника в споре; однако, в отличие от софистов, Аристотель учит не просто вести спор, а распознавать истину и отличать ее от лжи.
Многие исследователи справедливо указывали на этот практический источник и практическую же функцию аристотелевой силлогистики 19. И с этим нельзя не согласиться, если только отсюда не делается вывод, что собственно научно – теоретической значимости учение о силлогизме не имеет (а такая точка зрения получила широкое распространение в отечественной литературе.
Мне, напротив, хотелось бы подчеркнуть, что доказательство («силлогизм – это доказательство) 20у Аристотеля имеет первостепенное научно теоретическое значение 21. Более того, созданный Аристотелем логический метод доказательства надежнее и строже математического метода, в XVII–XVIII в. в. существенно потеснившего силлогизм.
Закон противоречия можно было бы по праву назвать также принципом определенности; наличие бесчисленного множества свойств у любого сущего, будь то человек, береза или конь, которое как правило используется теми, кто отрицает принцип тождества, не может сбить с толку, если только отличать эти свойства от того самотождественного и определенного, чему они присущи. А такова, по Аристотелю, сущность и суть бытия вещи. Те, кто не признают закон противоречия, «на деле отрицают сущность и суть бытия вещи: им приходится утверждать, что все есть привходящее и что нет бытия человеком или бытия живым существом в собственном смысле… Означать же сущность чего-то имеет тот смысл, что бытие им не есть нечто другое… Те, кто придерживается этого взгляда, должны утверждать, что ни для одной вещи не может быть такого (обозначающего сущность) определения, а что все есть привходящее» (Мет., IV, 4, 1007а 20–31).
Как видим, закон противоречия, категория сущностикак первой среди категорий и наличие определениявзаимно предполагают друг друга. Все они поставлены Аристотелем., в качестве противоядий от релятивизма, подчеркивающего изменчивость и текучесть, которые, по убеждению античных философов, препятствуют созданию науки 22.
4. Сущность и суть бытия (чтойность). Проблема определения
Тут пора сказать о трудности, которая возникла перед Аристотелем. Определив первую сущность как единичный индивидуум, как «вот это», Аристотель не мог не видеть, что в качестве единичного она не может быть предметом познания 23. А между тем именно стремление найти в качестве сущего то, что познаваемо, руководило Аристотелем в его размышлениях о сущности – так же, как оно руководило Парменидом, Демокритом, Платоном. Отдельный чувственно данный индивид – вот этот человек, вот эта лошадь – приняты Аристотелем в «Категориях» за первую сущность, т. е. за то, что является – по сравнению со всеми своими предикатами – самостоятельным и устойчивым. Устойчивое и неизменное, самостоятельно сущее уже в платоновской Академии рассматривалось как нечто познаваемое. Таким по праву считали общее , а не чувственно данное единичное. Как же разрешить возникающую здесь дилемму?
Один из знатоков древнегреческой философии в том числе и Аристотеля, У. К. Гатри считает, что первые сущности, как они описываются в «Категориях», – это не объяснения реальностей, а лишь то, что подлежит объяснению. Позднее, создавая трактаты, получившие имя «Метафизики», Аристотель как раз и ищет такое объяснение 24. И в самом деле, мы здесь читаем: «Если ничего не существует помимо единичных вещей, – а таких вещей бесчисленное множество, – то как возможно достичь знания об этом бесчисленном множестве? Ведь мы познаем все вещи постольку, поскольку у них имеется что-то единое и тождественное и поскольку им присуще нечто общее… Если помимо единичных вещей ничего не существует, то… нет ничего, что постигалось бы умом, а все воспринимаемо чувствами, и нет знания ни о чем, если только не подразумевать под знанием чувственное восприятие (Метафизика, III, 4, 999а26–999b4).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: