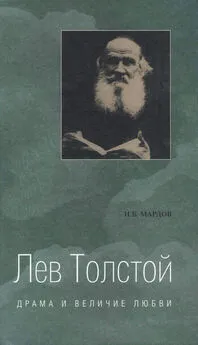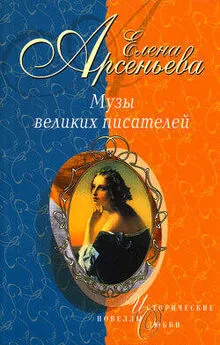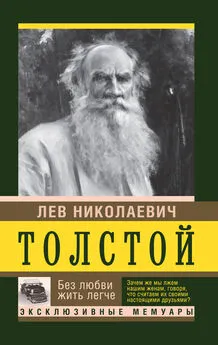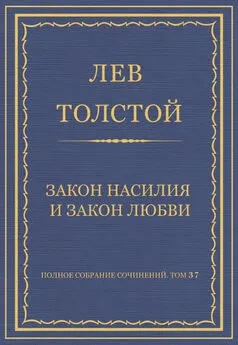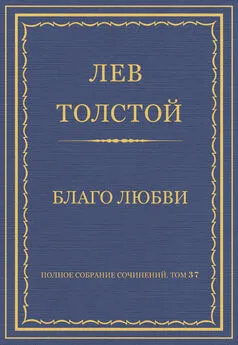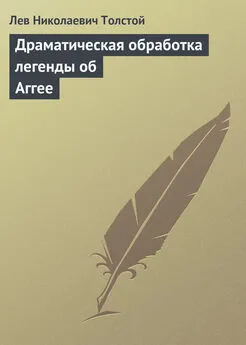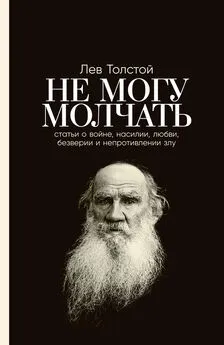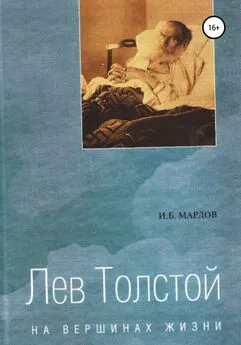Игорь Мардов - Лев Толстой. Драма и величие любви. Опыт метафизической биографии
- Название:Лев Толстой. Драма и величие любви. Опыт метафизической биографии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Прогресс-Традиция»
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-89826-256-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Мардов - Лев Толстой. Драма и величие любви. Опыт метафизической биографии краткое содержание
Лев Толстой. Драма и величие любви. Опыт метафизической биографии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сторгическая любовь зачастую подменяется чувством мечты о будущем счастье. Особенно у женщины. Женщина жива, пока в ней есть надежда на будущее и мечта о счастье. Этой надеждой и мечтой переполнено все: и её любовь к детям, и её порыв к мужчине, вся женская любовь. Её мечта о нем, о своем мужчине есть одна из составных частей её мечты о счастье; мужчине в её душе часто отводится роль доставителя и обеспечивателя мечты ее счастья.
И мужчина, влюбляясь, мечтает о будущем счастье с женщиной. Но счастье для мужчины обычно не самоцельно, а есть условие, иногда главное условие для достижения некоторой цели. «Она» обеспечивает, создает ему условия достижения цели. Женщина же, наоборот, если и ставит перед собою цели, то ставит и достигает их для счастья. Счастье в душевной жизни женщины в некотором роде играет ту же роль, что цель в душевной жизни мужчины. Женщина стремится к счастью, как мужчина к цели. Но при этом и она, и он что-то теряют в обретении блага жизни.
Благо не только не счастье, но чаще всего приобретается в несчастье. Счастье – не реальность, а мечта, во всяком случае, исключительное и краткое состояние души и не её достояние. Только благо постоянно, неизбывно и реально.
«Счастье есть удовлетворение существа человека, живущего от рождения до смерти только в этом мире; благо же есть удовлетворение требований вечной сущности, живущей в человеке» (53.75).
Состояние счастья и состояние блага схожи по самоощущению полноценности жизни. Счастье по большей части есть желание радости для себя; скажем, чтобы мне душой и делом служили, чтоб меня любили, дав и мне возможность испытать наслаждения любви и радость заботы. Дело тут не в эгоцентрических намерениях (благо тоже «для себя»), а в праздной душевной пассивности мотива счастья в отличие от рабочей душевной активности состояния блага. Замена счастья на благо возможна только при активизации жизни свободно волящей высшей души. Что, разумеется, не для всякого возможно. Но – что ж поделаешь – плод не рождается иначе, как перейдя от пассивности к активности.
Смешивая благо (вытруженное состояние свободы души) и счастье (временное состояние воскрыленности души, сознание восторга жизнью), человек тем самым путает основной признак исполнения своего назначения, спутывает внутренние критерии должной жизни – что «добро» и что «не добро». [71] Счастье можно представить одним из слагаемых блага, другим слагаемым которого служит «добро» в значении второй главы Книги Бытия, т. е. должное, духовно предписанное душе волеизлияние. Благо есть добро плюс счастье. Формулой этой можно оперировать математически. Благо минус добро есть счастье как таковое, счастье гедонизма. Благо минус счастье есть добро страстотерпца, аскета. Работает эта формула и тогда, когда левая её часть – «благо» – равна нулю: добро плюс счастье равно нулю. Или: добро равно минус свое счастье – формула, лучше всего выражающая нравственное кредо по внеблагим общественно-альтруистическим представлениям, по которым человек обязан жертвовать своим счастьем для «добра», понимаемого общим делом.
Совместное счастье и сторгическое благо различаются, как брать и отдавать. «Любить – благо, быть любимым – счастье» (56.79). Чтобы обрести благо, человек должен, неся «свой крест», произвести своею жизнью труд, т. е. мучиться, падать и подыматься и опять падать, страдать душою, а не быть счастливым. Толстой говорил, что человек, ожидающий радости от супружества, всегда обманывается.
«Главная причина семейных несчастий та, что люди воспитываются в мысли, что брак дает счастье. К браку приманивает половое влечение, принимающее вид обещания, надежды на счастье, которую поддерживает общественное мнение и литература, но брак есть не только не счастье, но всегда страдание, которым человек платится за удовлетворение полового желания, страдание в виде неволи, рабства, пресыщения, отвращения, всякого рода физических и духовных пороков супруга, которые надо нести, – злоба, глупость, лживость, тщеславие, пьянство, лень, скупость, корыстолюбие, разврат – все пороки, которые нести особенно трудно не в себе, в другом, а страдать от них, как от своих, и так же горьки физические, безобразие, нечистоплотность, вонь, раны, сумасшествие… и прочее, которые еще труднее переносить не в себе. Всё это, или хоть что-нибудь из этого, всегда бывает, и нести приходится всякому тяжелее. То же, что должно выкупать: забота, удовлетворение, помощь, все это принимается как должное; все же недостатки как не должное, и от них страдают тем больше, чем больше ожидалось счастья от брака. Главная причина этих страданий та, что ожидается то, что не бывает, а не ожидается того, что всегда бывает. И потому избавление от этих страданий только в том, чтобы не ждать радостей, а ждать дурного, готовясь переносить его» (53.229).
Главное в супружестве – любить супруга, как самого себя, сознавать его «Я», как «свое другое Я». Отсюда и супружеское мучение: переносить, как свое, но не в себе, а в супруге. Но только так – в неизбежных страданиях супружества, а не в супружеских радостях – добывается необходимое человеку сторгическое благо. Подстегнуть сторгию изнутри (вновь, скажем, заставить себя любить с прежней страстью) нельзя. Если что и выручает тут, то все те беды, болезни, несчастья и неудачи любимого, без которых нет жизни, за которые мы ропщем на Бога и которые вновь возбуждают сторгическую волю души и восстанавливают начинающую загнивать сторгическую связь. Сторгическая связь возрастает на бедах, в испытаниях, в горестях, которые тем самым становятся условиям достижения блага.
Новобрачные счастливы; в свой черед наступают все те семейные нерадости, о которых пишет Толстой, и им кажется, что это оттого, что они чем-то нарушили установки супружеской жизни. Чтобы вернуть себя в первоначальное радостное состояние, они стараются отыскать нарушения. Но этого, какие причины ни отыскивай, нельзя сделать. Поток взаимных претензий нарастает, и супруги или расходятся, или, сосуществуя, живут в описанных Толстым страданиях от несения душевных и физических пороков друг друга.
Конечно, единственный выход: «не ждать радостей, а ждать дурного, готовясь переносить его». Но выход этот существует для человека, способного к духовной жизни, в глубинах души сознающего себя носильщиком Божьим, рабом Хозяина. «Вместо того чтобы сознавать себя в положении раба, который должен трудиться для себя и для других и трудиться так, как этого хочет Хозяин, люди вообразят себе, что их ждут всякого рода наслаждения и что все их дело в том, чтобы пользоваться ими. Как же при этом не быть несчастным? Всё тогда, и труд, и препятствия, и болезни, все необходимые условия жизни представляются неожиданными страшными бедствиями (24.566)».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: