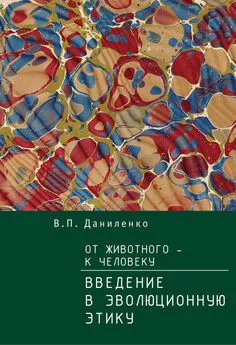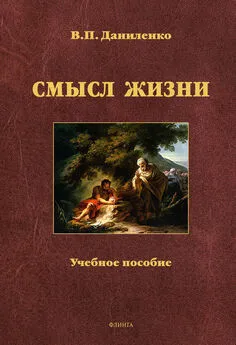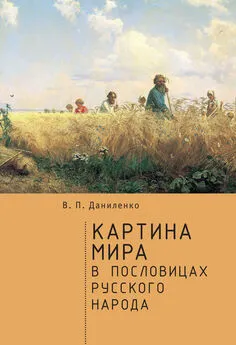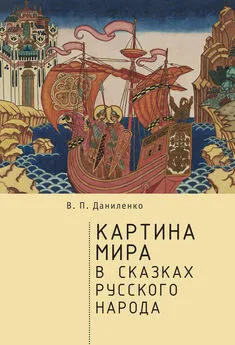Валерий Даниленко - От предъязыка – к языку. Введение в эволюционную лингвистику
- Название:От предъязыка – к языку. Введение в эволюционную лингвистику
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Алетейя»
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-9905979-6-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Даниленко - От предъязыка – к языку. Введение в эволюционную лингвистику краткое содержание
Предназначена для философов, биологов, психологов, культурологов. Особенно полезной эта книга будет для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей лингвистических специальностей. Написанная в увлекательной и доступной форме, она будет интересна для самого широкого круга других читателей.
От предъязыка – к языку. Введение в эволюционную лингвистику - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В чём состоит разница между животными языками и человеческими? В том, что первые держатся на инстинктах, а вторые – на разуме. Первые вырываются из уст животных непроизвольно, а вторые – произвольно, сознательно, целенаправленно. Эта разница возводит между ними дистанцию огромного размера. И. Гердер указывает: «Можно придавать этим крикам любую форму, организовывать и облагораживать их как угодно, но если к ним не присоединится разум, который пожелает использовать эти звуки в определённых целях, то я не вижу, каким образом на основе описанного выше закона природы может возникнуть наш произвольный, человеческий язык» (там же. С. 139).
Своим происхождением язык обязан человеческому разуму. Сам же этот разум – плод долгой эволюции наших животных предков. Благодаря высокой степени его развития, они становятся на путь очеловечения. С самого начала этот путь стала сопровождать рождающаяся речь. Почему они стали на неё способны? Потому что они стали способны на осознание знаковой природы звуков, которые производят окружающие предметы.
С того самого момента, как первые люди начинают воспринимать звучание окружающих предметов как знаки этих предметов (блеяние овцы – как знак овцы, лай собаки – как знак собаки и т. д.), они начинают воспроизводить эти звучания с помощью своих органов произношения и тем самым создавать первые слова. Поскольку они копировали с их помощью звучание окружающих предметов, эти первые слова были звукоподражаниями.
И. Гердер писал: «Звук блеяния, воспринятый душой человека как характерный признак овцы, стал благодаря осознанию, именем овцы, даже если язык ещё никогда ранее не пытался пролепетать это имя. Человек узнал овцу по блеянию: оно стало схваченным признаком, заставлявшим душу отчётливо вспоминать об определённом понятии. Так что же это, как не слово?. Так был изобретён язык! Это произошло столь же естественным и необходимым для человека образом, сколь естественно то, что человек является человеком» (там же. С. 142–143).
Мы видим, что И. Гердер придал звукоподражательной гипотезе происхождения языка вполне реалистический характер. К сожалению, в развитии этой гипотезы он зашёл чересчур далеко. Он стремился быть в ней чересчур последовательным. О чём идёт речь? О том, что он заставил звучать даже и незвучащие предметы. Последние воспринимаются не органами слуха, а другими органами чувств – органами зрения и осязания. Чтобы не отступать от звукоподражательной гипотезы о происхождении языка, он стал сводить зрительные и осязательные восприятия к слуховым. В этом случае звучать начинают и незвучащие предметы, а следовательно, и их обозначения трактуются как звукоподражания.
И. Гердер полагал, что первые люди были способны превращать зримое и осязаемое в слышимое. Так, он писал: «Большинство зримых предметов движется; многие из них звучат при движении, а если этого не происходит, то они в своём первоначальном состоянии находятся как будто ближе к глазу и, следовательно, будучи расположены в непосредственной близости от него, могут быть осязаемы. Осязание же очень близко к слуху, и его обозначения, например, “твёрдый”, “грубый”, “мягкий”, “пушистый”, “бархатистый”, “волосатый”, “жёсткий”, “гладкий”, “ровный”, “щетинистый” и т. п., которые, как мы видим, не проникают в глубину и относятся лишь к поверхности предметов, издают как бы осязаемые звуки» (там же. С. 152).
И. Гердер был умнейшим человеком, но согласиться с «озвучиванием» всего мира, чтобы не изменить звукоподражательной гипотезе о происхождении языка, не представляется возможным. Отсюда не следует, что от преувеличения роли слуховых ощущений его теория глоттогенеза в целом утрачивает свою ценность. Эта теория не утратила своего значения до сих пор. Её главное достоинство – эволюционный подход к решению вопроса о происхождении языка, который стал возможен, с одной стороны, благодаря универсально-эволюционному мировоззрению её автора, а с другой, благодаря эволюционному истолкованию перехода предъязыка в язык.
Три грандиозных личности выдвинула история универсального эволюционизма в античности – Демокрита, Эпикура и Лукреция и три – в новое время – Иоганна Гердера в XVIII веке, Герберта Спенсера в XIX и Пьера Тейяра де Шардена – в ХХ (см. подр.: Даниленко В. П. Универсальный эволюционизм – путь к человечности. СПб.: Алетейя, 2014).
2. 5. Вильгельм фон Гумбольдт
Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835) писал: «Истинное определение языка может быть только генетическим» (Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. С. 70). В этом лозунге А. А. Потебня видел самую суть учения В. Гумбольдта о языке. Но что он означает?
Лозунг о генетическом определении языка для В. Гумбольдта означал, что при рассмотрении языка вообще, языкового типа или отдельного языка в частности он не останавливался лишь на их синхроническом описании, но обращался к вопросу об их генезисе, происхождении. На синхроническое состояние языка в этом случае смотрят с генетической точки зрения. За определённым состоянием языка эта точка зрения ищет его истоки, его первоначальные корни.
Генетическая точка зрения (в гумбольдтовском понимании этого термина) должна расцениваться как одна из форм эволюционистского мировоззрения. Её особенность состоит в том, что в центр своего внимания в этом случае исследователь ставит не весь эволюционный путь изучаемого объекта, а лишь его происхождение. Подобным образом подходил к изучению языка В. Гумбольдт. Его эволюционизм, таким образом, может быть определён как генетический. Однако данное определение его мировоззрения является недостаточным: его эволюционизм был не только генетическим, но и культурным. Это значит, что с генетической точки зрения он смотрел не только на языковую эволюцию, но и на культуру в целом. Вот почему в конечном счёте мы можем определить мировоззрение В. Гумбольдта как культурно-генетический эволюционизм.
Об эволюции каких бы сфер духовной культуры он ни писал – науки, искусства, нравственности, политики или языка – повсюду его мысль обращалась к их генезису, к «творящей силе, породившей их» (там же. С. 53). В возникновении каждой сферы культуры он стремился видеть созидательный фактор – фактор, благодаря которому и происходило очеловечение (гоминизация) наших предков. Так, по поводу возникновения нравственности и её очеловечивающей роли он писал: «С появлением человека закладываются и ростки нравственности, развивающиеся вместе с развитием его бытия. Это очеловечение, как мы замечаем, происходит с нарастающим успехом» (там же. С. 49).
На протяжении всего XIX века языковеды будут биться над вопросом о месте лингвистики среди других наук. Её будут сближать то с естествознанием (Ф. Бопп, А. Шляйхер), то с психологией (Г. Штайнталь, А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртенэ), а то и – по традиции – с логикой (К. Беккер, Ф. И. Буслаев).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: