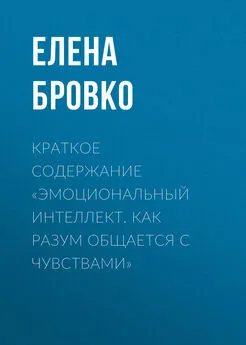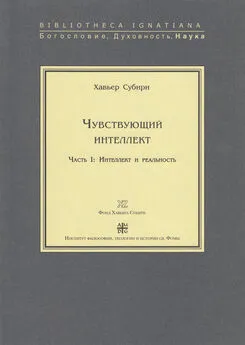Хавьер Субири - Чувствующий интеллект. Часть III: Интеллект и разум
- Название:Чувствующий интеллект. Часть III: Интеллект и разум
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Св. Фомы»
- Год:2008
- Город:М.
- ISBN:978-5-94242-039-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Хавьер Субири - Чувствующий интеллект. Часть III: Интеллект и разум краткое содержание
Чувствующий интеллект. Часть III: Интеллект и разум - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
а) Прежде всего, мышление есть постижение, которое открыто самим реальным; иначе говоря, оно есть поиск чего-то потустороннего тому, что я уже постигаю в данный момент. Мыслить – значит всегда мыслить по ту сторону . Если бы это было не так, не было бы ни возможности, ни необходимости мыслить. Однако нужно подчеркнуть, что эта потусторонность есть потусторонность самого характера реальности. Речь идет не только о поиске других вещей: этим занимаются и животные, – а о поиске реальных вещей. Чем животные не занимаются, так это разысканием в самой реальности реального. И это разыскание проводится не только ради того, чтобы найти реальные вещи, но и ради того, чтобы найти в самих реальных вещах, уже постигнутых до мышления, то, что они суть в самой реальности. А это – форма «потусторонности». Мышление прежде всего есть «мышление в обращенности к» «реальному по ту сторону». Так вот, бросаются в глаза три направления обращенности «к», определяющие ход к потусторонности. Потусторонность – это, во-первых, то, что лежит вне поля реальности. Мыслить – это прежде всего идти, постигая в данном направлении то, что лежит за пределами схватываемых вещей. В таком направлении мышление представляет собой деятельность, «обращенную вовне». Во-вторых, можно говорить о движении к реальному как о простом опознавании, а от него – к тому, что в нем опознается, помечается: тогда потустороннее будет «обращенностью к помечающему». В-третьих, можно идти от того, что уже схвачено как реальное, к тому, чем это реальное является внутри, как реальность: это будет ход от эйдоса к Идее, как сказал бы Платон. Здесь потустороннее представляет собой «обращенность вовнутрь». Само «внутри» есть модус «потусторонности» по линии реальности. Сказанное ни в коей мере, даже отдаленно, не составляет полного перечня изначальных форм потусторонности; к тому же мы, вероятно, не всегда знаем, к какой потусторонности нас может нацеливать и направлять реальное. Я только хотел выделить некоторые из особо и непосредственно важных направлений.
b) Мы сказали, что в деятельности мышление постигает реальность «по ту сторону». Именно потому, что мышление постигает в открытости, оно представляет собой начинательное постижение. Речь идет о начинательности , свойственной мыслящему постижению. Это свойство имеет не чисто концептуальный характер, но решительным образом затрагивает сам ход постижения как такового. Любое мыслящее постижение, будучи начинательным постижением, открывает некий путь. Я еще буду подобно говорить об этом. Теперь же достаточно обратить внимание на то, что есть пути, в действительности отклоняющиеся от реальности вещей. Потому что есть пути, которые изначально предстают как почти тождественные, различимые лишь в бесконечно малой степени: достаточно едва уловимой перестановки акцента на ту или другую сторону, чтобы переместиться с одного пути на другой. Именно это и совершает мышление. Тем не менее, эти различные пути, изначально столь близкие и поэтому могущие казаться тождественными, будучи продолжены, способны приводить к совершенно разным и даже бесконечно несовместимым постижениям. Едва ощутимое колебание в начале способно приводить к сущностно различным реальностям и модусам реальности. Дело в том, что мышление имеет конститутивно начинательный характер. Любая мысль – это всегда не только и не просто пункт прибытия, но также, внутренним и конститутивным образом, пункт отправления.
Постигаемое в мышлении, конечно, есть нечто постигаемое, но и начинательно открытое по ту сторону самого себя.
с) Мышление не только открыто в начинательной форме по ту сторону постигаемого, но и представляет собой постижение, активированное реальностью, поскольку она открыта. Каким образом? Постижение есть чистая актуализация реального; поэтому само постигаемое реальное дано в качестве реальности: оно есть данное. Что такое это данное? Данное – это прежде всего «данное-чего», то есть данное реальности. Это не означает, что данное есть нечто такое, что дается нам реальностью по ту сторону данного; данное означает саму реальность, которая дана. Быть «данным-чего», то есть реальности, означает быть «данной реальностью» как реальностью. Рационализм во всех его формах (и в этом пункте Кант заимствует идеи Лейбница) всегда считал, что быть данным означает быть «данным-для» некоторой проблемы, а стало быть, заданным для мышления. Такова идея Когена: данное (das Gegebene) есть заданное (das Aufgegebene). Постижение для Когена формально есть мышление и, как таковое, чистая задача. Но это невозможно. Разумеется, то, что мы постигаем о реальности, есть данное для некоторой проблемы, которая встает перед нами в процессе мышления. Но это не самое главное в нашем вопросе – ни в отношении идеи «данного», ни в отношении идеи «данного-для»: ведь для того, чтобы быть «данным-для», данное должно для начала быть, прежде всего, «данным-чего», то есть реальности. В противном случае о проблеме не могло бы идти речи. Стало быть, реальное есть «данное-чего», то есть реальности, и «данное-для» мышления. Что представляет собой это «и»? Другими словами, каково внутреннее единство этих двух форм данного? Это не чисто присоединительное единство: дело обстоит не так, как если бы данное было «данным-чего» и вдобавок «данным-для». Дело обстоит так, что оно является «данным-для» в точном и формальном смысле именно потому, что является «данным-чего». Почему это так? Потому, что данное реальности дает нам реальность как реальность в ее внутренней и формальной открытости. Поэтому оказывается, что «данное-чего» есть ео ipso «данное-для» по ту сторону данного. Отсюда очевидно, что рационализм не только оставил без внимания «данное-чего», но также имел ложное представление о «данном-для», потому что полагал, что то, для чего данное дано и что конституирует его в качестве «данного-для», есть соотнесенность с мышлением. Так вот, это ложно. «Данное-для» есть момент актуальности реального в его открытости «по ту сторону». «Данное-для» дано как открытое в мире. Прежде всего, данное есть не заданное для проблемы, а данное «потустороннего». Поэтому рационализм заблуждается вдвойне: во-первых, потому что он пренебрег «данным-чего»; во-вторых, потому что он истолковал «данное-для» как заданное для некоей проблемы, тогда как «данное-для» в первую очередь есть не форма постижения реального, а форма актуализации поля в его открытой потусторонности. Только потому, что «данное-для» есть момент полевой реальности по ту сторону, – только поэтому оно может быть заданным для некоторой проблемы. Открытость реальности, поскольку она чисто актуализирована в постижении, есть внутреннее и радикальное единство двух форм данного: «данного-чего» и «данного-для». Обыденный язык выражает это внутреннее единство бытия данного в выражении, которое не только удачно само по себе, но и, будучи взятым в строго формальном смысле, выявляет унитарную структуру двух форм данного: вещи дают о чем поразмыслить . Реальное не только дается в постижении, но и дает о чем поразмыслить. Стало быть, это «дать» образует радиальное единство двух форм данного в реальном. И это «дать о чем поразмыслить» есть не что иное, как постижение в мыслящей деятельности. Мыслящая деятельность не только в начинательной форме открыта потустороннему, но и конституирована в качестве именно такой деятельности самим предварительно постигнутым реальным. С этой точки зрения мыслящая деятельность заключает в себе сущностно важные аспекты, которые необходимо рассмотреть подробно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
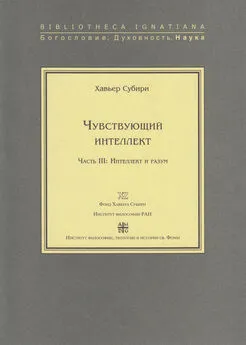
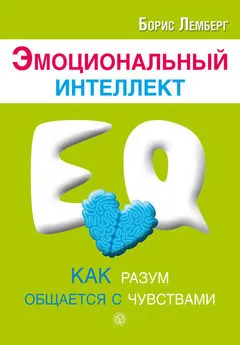
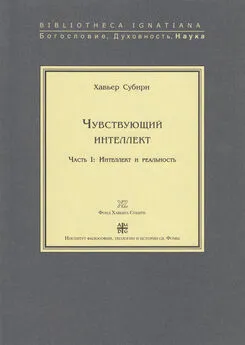
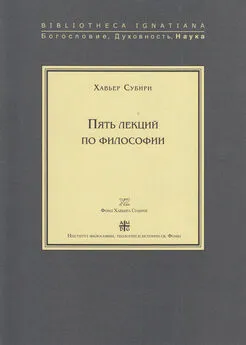
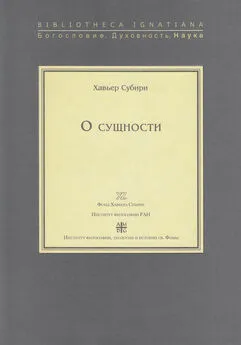
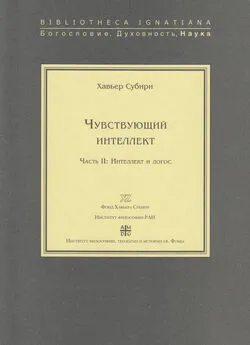
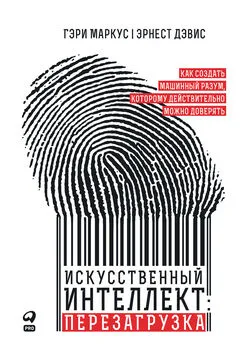
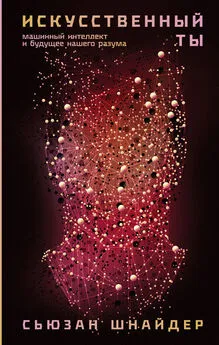
![Валерий Устюгов - Битва… Интеллекта с Разумом. [Роман]](/books/1241635/valerij-ustyugov-bitva-intellekta-s-razumom-roma.webp)