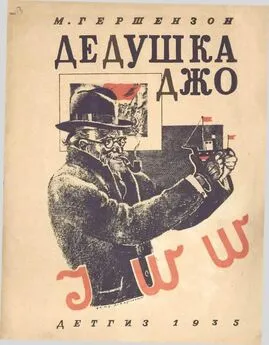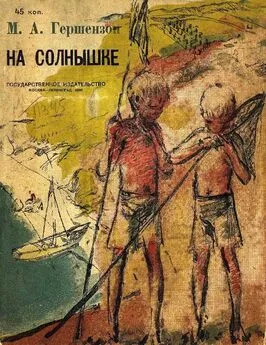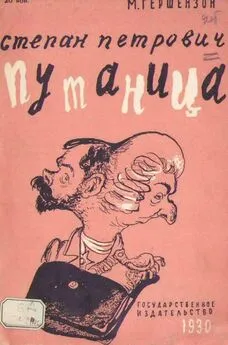Михаил Гершензон - Избранное. Исторические записки
- Название:Избранное. Исторические записки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «ЦГИ»
- Год:2016
- Город:М., СПб.
- ISBN:978-5-98712-542-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Гершензон - Избранное. Исторические записки краткое содержание
В том входят: «Исторические записки», «Славянофильство», «Мечта и мысль И.С. Тургенева», «Пальмира», «Человек, одержимый Богом». Многие выстраданные мысли «Исторических записок» поражают своей злободневностью и корреспондируют со статьей «Славянофильство». Издание снабжено статьями В. Розанова, Г.В. Флоровского, Л.И. Шестова, А. Белого, Е. Герцык, Б.К. Зайцева, В.Ю. Проскуриной о месте Гершензона в истории российской культуры, комментариями и указателем имен.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, а равно и на исследователей, преподавателей и студентов.
Избранное. Исторические записки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Пора исправить ошибку, которая в свое время была психологически неизбежна. Пора вылущить из исторической философии славянофильства то многоцветное зерно, которое вложил в нее Киреевский, – зерно непреходящей истины о внутреннем устроении человека.
Была правда в том, что писал Киреевский о рационализме европейской мысли. Кто следит за развитием современной философии на Западе, тот знает, что по всему цивилизованному миру идет в последние два десятилетия великое умственное движение, имеющее предметом единственно чувственно-волевую личность в человеке, направленное к тому, чтобы выяснить ее природу, освободить ее и вручить ей одной, как подобает, и задачу миропознания, и задачу жизненного творчества, узурпированные отвлеченным сознанием. Метерлинк 37*и Ницше – не равные по силе, но одинаково «призванные» вожди этого движения; один без устали слушает и учит нас слышать властный голос нашего чувственного «я», его немолчный отзвук на целостную совокупность бытия; другой учит нас сплачивать в себе эту чувственно-волевую личность и возводить ее до наибольшего могущества. А рядом с ними – тем же стремлением поглощены сотни мыслителей и поэтов, и все они в последнем итоге учат тому же, что полвека назад проповедовал Киреевский: познавать и жить цельным духом.
Учение Киреевского о психическом строе личности представляло собою основанную на его личном опыте и выраженную в самой общей форме научную гипотезу. Это было гениальное прозрение, на полвека опередившее работу науки. В 1886 году американским психологом Майерсом 38*была впервые обнародована теория так называемых подсознательных психических состояний – открытие, подготовленное всем развитием психологии за последние два века и являющееся эрою в области науки о духе. Уже Лейбниц знал, что арена нашей психической жизни несравненно больше того освещенного круга, который мы называем сознанием. Он полагал, что в нашей душе совершается неисчислимое множество мелких перцепций, ускользающих от сознания, и что при помощи этих неуловимых перцепций человек находится в непрерывном общении со вселенной. Это воззрение Майерс обосновывает экспериментальным путем. Он утверждает, что человеческая психика не ограничивается фокусом, то есть центральной частью, и более или менее освещенным полем, простирающимися вокруг этого центра. За пределами этих двух кругов, различающихся только по степени и образующих в совокупности так называемую область сознания, он считает научно доказанным существование другого «я» – подсознательного или сублиминального; «каждый из нас, – говорит он, – обладает психическим бытием более устойчивым и более пространным, нежели он догадывается, личностью, которую организм никогда не может проявить вполне». Таким образом, обычное сознание, составляющее лишь часть нашей личности, всеми своими корнями уходит в подсознательную сферу; деятельность последней обычно остается скрытою, но иногда, при известных обстоятельствах, обнаруживается и непосредственно, – и характер этих обнаружений наводит на мысль, что частью своего существа, лежащей за сознательным «я», человек находится в общении с миром иным, чем тот, который воспринимается его чувствами 4.
В этой теории сублиминального «я», ставшей теперь прочным достоянием психологии, находит свое научное обоснование мысль Киреевского о чувственно-волевом, космическом ядре человеческой личности.
Главы VIII–XVII. Учение о природе сознания (Ю.Ф. Самарин)
В кабинете Чаадаева, вероятно в 1840 или 1841 году, молодой Самарин 39*впервые встретился и познакомился с Киреевским и Хомяковым 5.
Не Хомяков, разработавший богословско-догматическую сторону славянофильства, а Юрий Самарин является прямым преемником Киреевского, притом единственным, потому что именно Самарин положил в основу своего учения и развил далее ту мысль, которая составляла подлинное зерно учения Киреевского. Все «открытие» Самарина представляет собою не что иное, как дальнейшую разработку наблюдения, сделанного Киреевским.
«Желал бы, но не могу – это сильнее меня». Что значит меня! Все желания, испытываемые человеком – в нем; все в равной степени, в этом смысле, – он; все в равной степени необходимы и обусловлены ходом бытия. Отчего об одном из этих желаний человек говорите, в противоположность другим, которые называет не-я? Потому, что независимо от представлений, желаний, впечатлений, потребностей, в человеке существует еще сердцевина, как бы фокус, из которого бьет самородный ключ. Запершись в эту сердцевину, человек с этой точки зрения относится ко всему этому (желания, побуждения и т. д.), как к чему-то внешнему, как к объекту, к которому он относится как другой, из всей этой массы усваивая и отрицая, одобряя и отталкивая, что хочет».
В этих строках, написанных Самариным, полностью выражена основная мысль Киреевского. Эта мысль и стала исходной точкой философии Самарина. Единственным творческим началом в человеке, определяющим всю структуру и жизнь личности, является чувственно-волевое ядро, которое, таким образом, централизует личность и обусловливает ее единство; так может быть изложена эта мысль.
А с нею была неразрывно связана другая. Из нее вытекало – и было выведено уже Киреевским – определенное представление о природе человеческого знания. Раз был установлен факт духовной цельности человека, в которой все способности подчинены державству нравственного центра, необходимо было признать, что живое и существенное знание доступно только целостному духу и не может быть делом какой-нибудь одной способности, что, следовательно, и та из способностей нашего духа, которая обыкновенно считается специальным органом познавания, именно логический разум, не в состоянии исполнять эту роль, то есть познавать существенно. Ближе исследуя природу логического или научного знания, Киреевский пришел к заключению, что оно есть знание формальное, так как оно определяет не существо вещей, а только границы и отношения понятий.
Самарин целиком принял этот вывод Киреевского, непосредственно вытекавший из основного положения, но обосновал его по-своему, – и постановка, которую он дал вопросу, как нельзя лучше характеризует практический склад его ума. Это был человек, во многом отличный от романтика – Киреевского. Киреевский был весь сосредоточен в себе. В нем клубились темные, глубокие, тяжело нагруженные чувства, и мысль его всецело погружалась в них, ища средств привести их в гармонию и тем освободиться от их гнетущей тяжести. Ничего другого Киреевский в сущности не делал всю жизнь: он только упорно решал свою личную задачу, и если его личная борьба получила общечеловеческий смысл, то это был, так сказать, побочный результат, как и вообще всякое существенное дело, совершающееся в отдельной душе, имеет ценность прообраза для душевной жизни всех людей, и тем большую, чем существеннее оно и чем сильнее дух, служащий ему ареною. Напротив, в Самарине нет и следов романтизма. Его чувства определенны и отчетливы; даже сильно развитое в нем чувство трансцендентного имеет в себе какую-то ясность, которая придает ему более интеллектуальный, нежели мистический характер. Его мысль ясна, конкретна и чрезвычайно остра в разложении явлений и понятий (известно, что Самарин был первоклассный диалектик). Это ум положительный, одаренный редким чутьем реального и практически-нужного, охотно и легко ориентирующийся в действительности. Вся разность этих двух натур сказалась в их внешней судьбе. Киреевского невозможно представить себе вне тесной, любящей семьи, сначала родительской, потом своей, где он непрестанно болеет душою за каждого из ее членов; Самарин остался холостым, и мы даже не знаем за ним никакого увлечения женщиной. Киреевский всю жизнь прожил вдали от мира и его шумных дел, а Самарин почти тридцать лет, до последнего дня, работал, не покладая рук, на общественном поприще – в Остзейском крае, в Киеве при Бибикове 40*, в комиссиях по делу освобождения крестьян, наконец, в земстве, где память о его деятельности жива поныне. Тем же различием было отмечено, разумеется, и их мышление.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: