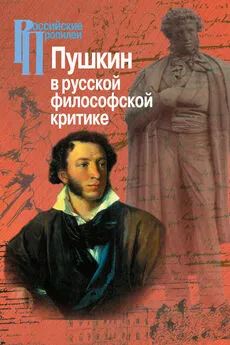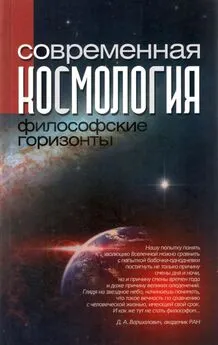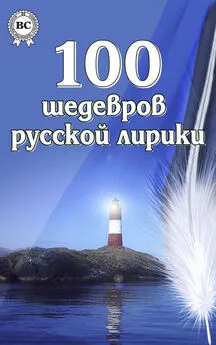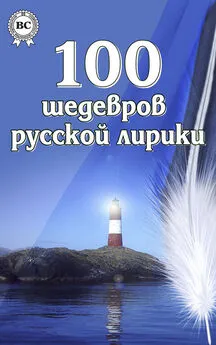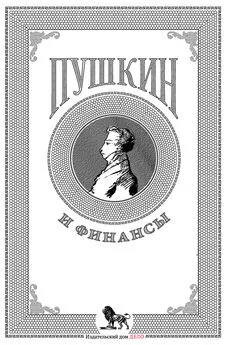Коллектив авторов - Пушкин в русской философской критике
- Название:Пушкин в русской философской критике
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ЦГИ
- Год:2014
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98712-161-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Пушкин в русской философской критике краткое содержание
В настоящем, третьем издании книги усовершенствован научный аппарат, внесены поправки, скорректирован указатель имен.
Пушкин в русской философской критике - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но голоса животной природы – в самом человеке, как и вокруг него, – не молчат ни тогда, когда она весною, возбужденная, ликует и светло радуется новым приливам темной жизни, ни тогда, когда она, удрученная, изнывает и томится летним зноем. Вот причина той, на первый взгляд, странности, что кипучая и жизнерадостная душа Пушкина тяготилась не только красным летом, но и животворною весною. Как поэт жизни, он ощущал, конечно, и жизнь природы, но его крылатая поэзия не любила медлить на этих первых ступенях. Раскрытие поэтического смысла природной жизни Пушкин как бы предоставил своему глубокомысленному современнику – Тютчеву, а лирическую живопись ее явлений – одному из главных птенцов своего «лебединого» гнезда – Фету. Поэзию же самого Пушкина тянуло от природы к жизни человеческой и отсюда – ввысь и вдаль. Усиленное биение земного пульса весною и летом тяготило его, мешало свободе его лучших вдохновений:
Суровою зимой я более доволен…
Но если зимний сон природы не нарушает тишины и уединения в деревне, то в обычной городской жизни является тут новая помеха для творческих настроений – со стороны среды общественной: возбуждение низшей, страстной души «суетным светом», или «светскою суетой». Да и в деревне частая смена «жгучего» мороза с искусственным жаром волнуют кровь не хуже внешнего солнца. Всего лучше осень:
Унылая пора, очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса!
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса.
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
С увяданием природы расцветает в душе поэзия. Вот –
…гаснет краткий день, и в камельке забытом
Огонь опять горит, – то яркий свет лиет,
То тлеет медленно; а я над ним читаю [49] «То тлеет медленно, а я пред ним читаю…»
,
Иль думы долгие в душе моей питаю.
И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне ,
Излиться, наконец, свободным проявленьем .
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо – к бумаге.
Минута – и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу!.. матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз – и паруса надулись, ветра полны:
Громада двинулась и рассекает волны:
Плывет… Куда ж нам плыть?
Этот отчет поэта о процессе своего творчества говорит сам за себя; никто, я полагаю, не усомнится в его полнейшей правдивости. Ну и что же тут описывается? Какие-нибудь тонкие изобретения и сложные комбинации огромного ума? Ничуть не бывало. Успение природы, успение телесной жизни в поэте – и пробуждение в нем поэзии не как деятельности ума, а как состояния души, охваченной лирическим волнением и стремящейся излиться в свободном проявлении – свободном, значит, не придуманном, не сочиненном. Тут поэт уже ничего не ищет: все – и звуки, и образы – приходит к нему само собой. Никакой преднамеренности и даже никакого предвидения: «Плывет… Куда ж нам плыть?»
Правдивое описание настоящего творчества прекрасно оттеняется в другом стихотворении таким же описанием безнадежно-тщетной попытки намеренного сочинительства в поэзии:
Беру перо, сижу, насильно вырываю
У Музы дремлющей несвязные слова.
Ко звуку звук нейдет… Теряю все права
Над рифмой, над моей прислужницею странной:
Стих вяло тянется, холодный и туманный…
Усталый, с лирою я прекращаю спор [50] «Зима. Что делать нам в деревне» (1829).
.
III
Поэт не волен в своем творчестве. Это – первая эстетическая аксиома. Так называемая «свобода творчества» не имеет ничего общего с так называемою «свободой воли». Как ясно из гениально простого свидетельства Пушкина, творчество свободно никак не в том смысле, чтобы ум поэта мог по своей воле, по своему заранее обдуманному выбору и намерению создавать поэтические произведения. Такие сочинения могут быть только подделками под поэзию, настоящий же поэт, когда и захочет насиловать свою музу, проявить над нею свою свободу воли и творчества – не может, и из этих попыток совсем ничего не выходит. Настоящая же свобода творчества имеет своим предварительным условием пассивность, чистую потенциальность ума и воли, – свобода тут принадлежит прежде всего тем поэтическим образам, мыслям и звукам, которые сами, свободно приходят в душу, готовую их встретить и принять. И сама поэтическая душа свободна в том смысле, что в минуту вдохновения она не связана ничем чуждым и противным вдохновению, ничему низшему не послушна, а повинуется лишь тому, что в нее входит или приходит к ней из той надсознательной области, которую сама душа тут же признает иною, высшею, и вместе с тем своею, родною. В мире поэзии душа человеческая не является как начало деятельного самоопределения, – здесь она определяется к действию тем, что в ней лучше ее и что открывается сознанию лишь в самой действительности, только чрез самый опыт поэтических явлений, как чего-то данного свыше, а не задуманного или придуманного умом. Если бы поэт мог сам сочинять свои произведения или хотя бы только предвидеть, что и когда ему даст вдохновение, то он не брался бы за перо, чтобы только грызть его в напрасной борьбе с «лирой», или «музой».
Бывают стихотворцы от ума, принимающие себя и другими иногда принимаемые за поэтов: образец их – Вольтер. Но, несмотря на французское образование Пушкина, на его незрелое вольнодумство и на общий школьнический вкус к нескромным шуткам, он тщетно пытался перевести «Орлеанскую Девственницу»: душа, сродная истинной красоте, могла на минуту острием своего ума касаться ее противоположности, но войти в это уродство, надолго себе усвоить эту чужеродную стихию было для нее невозможно. У Пушкина есть бесподобные эпиграммы, а также шутки, которых нескромность связана изяществом формы, не допущена до цинизма и расплывается в игривой и добродушной веселости; это словно яркие, легкие бабочки, которых гадкое червеобразное туловище совсем закрыто и пересилено роскошными порхающими крылышками. Есть у Пушкина и chef d’oeuvre [51] Шедевр (фр.) .
сосредоточенного юмора – летопись села Горохина [52] Впервые повесть, которую упоминает Соловьев, вышла под названием «Летопись села Горохина» («Современник», 1837); правильное название: «Истории села Горюхино» (1830–1831).
. Но попытки запрягать поэзию в ярмо сложного порнографического острословия не удавались Пушкину: «Гаврилиада», «Царь Никита», перевод «Девственницы» – слабы и остались неконченными.
Интервал:
Закладка: