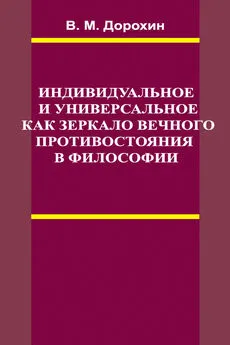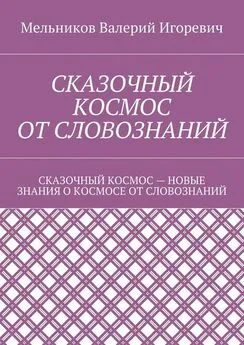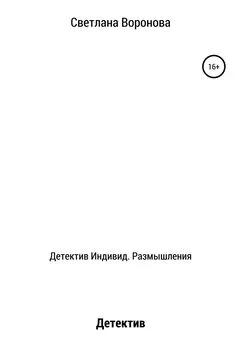Эрнст Кассирер - Индивид и космос в философии Возрождения
- Название:Индивид и космос в философии Возрождения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ЦГИ
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98712-113-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрнст Кассирер - Индивид и космос в философии Возрождения краткое содержание
В данное издание включена книга Э. Кассирера: «Индивид и космос в философии Возрождения» и приложение: Николай Кузанский. Простец об уме; Шарль де Бовель. Книга о мудреце.
Индивид и космос в философии Возрождения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
15
См. особенно письмо Кузанца к Гаспару Айндорфферу от 22 сентября 1452 г.: «In sermone meo primo de spiritu sancto… reperietis quomodo scilicet in dilectione coincidit cognitio. Impossibile est enim affectum moveri nisi per dilectionem, et quicquid diligitur non potest nisi sub ratione boni diligi… Omne enim quod sub ratione boni diligitur seu eligitur, non diligitur sine omni cognitione boni, quoniam sub ratione boni diligitur. Inest igitur in omni tali dilectione, qua quis vehitur in Deum, cognitio, licet quid sit id quod diligit ignoret. Est igitur coincidencia scientiae et ignorantiae, seu doctae ignorantiae». – «В моем первом рассуждении о Святом Духе вы найдете ответ на вопрос, каким образом соединяется познание с любовью. Без любви чувства не могут быть побуждаемы к чему-либо, а все, что мы любим, мы любим не иначе, как в идее блага… Ведь все, что мы любим или что избираем в идее блага, вне познания блага любимо быть не может, ибо любим мы его в идее блага. Всякая любовь, которая ведет каждого из нас к Богу, включает в себя и знание, хотя и не знающее того, что оно любит. То есть в любви соединяются знание и незнание, или ученое незнание». Противоположные Кузанцу позиции аффективной и волюнтативной мистики отстаивает в высшей степени характерной манере его противник Винсент фон Аггсбах. Более подробно об этом споре см.: Vansteenberghe E. Autour de la docte ignorance. Une controverse sur la théologie mystique au XVe siècle. Münster, 1915, где приводятся и отдельные документы, касающиеся спора (приведенное письмо Николая Кузанского см. Op. cit. P. 111).
16
Ср. особенно работу «De filiatione Dei» (Opera fol. 119): «Ego autem… non aliud filiationem Dei quam Deificationem quae ετ θέωστς graece dicitur, aestimandum judico. Theosin vero tu ipse nosti ultimitatem perfectionis existere, quae et notitia Dei et verbi seu visio intuitiva vocitatur.» – «Я же думаю, что… богосыновством следует считать не что иное, как обожествление человека, или по-гречески θέωσις. Теосис же, как сам ты знаешь, представляет собой предел совершенствования, который обозначается как знание Бога и слова, или как интуитивное созерцание».
17
S. Dial. de possest (Op. S. 259): «Omnium operum Dei nulla est praecisa cognitio, nisi apud eum, qui ipsa operatur et si quam de ipsis habemus notitiam, illam ex aenigmate et speculo cognito mathematicae elicimus… Si igitur recte consideraverimus, nihil certi habemus in nostra scientia, nisi nostram mathematicam, et illa est aenigma ad venationem operum Dei.» – См. «О возможности-бытии» 43: «Поэтому точное познание всех произведений божественного творчества может быть только у того, кто их произвел. И если мы что-нибудь знаем о них, то только с помощью отражений в зеркале и символическом намеке ведомой нам математики… Таким образом, если мы рассуждаем верно, то в нашем знании нет ничего достоверного, кроме нашей математики. И она есть символ, способствующий исследованию дел Божиих». Ср. особенно работу «De mathematica perfectione Opera», f. 1120 ss.
18
Petrarca. Trionfo della fama. Cap. 3:
Volsimi da man manca; e vidi Plato,
Che in quella schiera andт piu presso al segno
Al quale aggiunge, cui dal cielo и dato.
Aristotele, poi, pien d’alto ingegno.
19
Более подробно об отношении Петрарки к Платону см. Voigt G. Die Wiederbelebung des klass. Altertums. 2. Aufl. I. S. 82 ff.
20
В сохранившейся до наших дней библиотеке Кузанца кроме «Государства» мы найдем и другие диалоги Платона: «Федон», «Апологию Сократа», «Критон», «Менон» и «Федр». Но, кажется, больше всего обязан Николай Кузанский платоновскому «Пармениду», с которым он был знаком по комментарию Прокла. Подробнее у Ванстенберге (Op. cit. P. 429 ff).
21
Более детальное рассмотрение моих представлений о греческой философии см. в книге: Lehrbuch der Philosophie. Hrsg. von Max Dessoir. B., 1925. I. S. 89 ff.
22
«Verum et eloquio et stilo ac forma litterarum antiqua videmus omnes delectari, maxime quidem Italos, qui non satiatuntur disertissimo (ut natura Latini sunt) huius generis latiali eloquio, sed primorum vestigia repetentes Graecis litteris maximum etiam studium impendunt. Nos vero Alemanni, etsi non longe aliis ingenio minores ex discrepanti stellarum situ essemus effecti: tamen in ipso suavissimo eloquii usu, aliis plerumque non nostro cedimus vitio, cum non nisi labore maximo, tamquam resistenti naturae vim facientes, Latinum recte fari valeamus.» – «Действительно, что красноречием, стилем и слогом древних услаждаются все, но в особенности – италики, которые, будучи сами от природы латинянами, не удовлетворяются изобильным богатством латинского слова, а, следуя по стопам предков, с величайшим рвением занимаются и греческими древностями. Мы же, германцы, не намного уступая другим по своим способностям, родились под иными созвездиями. И не наша, по большей части, вина в том, что мы уступаем другим народам в сладчайшем искусстве красноречия, когда овладеваем правильной латинской речью не иначе, как с величайшими усилиями, словно преодолевая сопротивление своей природы» (из предисловия к книге Кузанца «De concordantia catholica». Op., fol. 683 s.).
23
Эрнст Хоффман в своей недавней превосходной статье показал, почему эти понятия в своем первоначальном, исконно-платоновском значении должны были быть и оставались чуждыми всему строю средневекового мышления, и мне достаточно здесь просто сослаться на его статью (Platonismus und Mittelalter // Vorträge der Bibliothek Warburg III. S. 17).
24
В связи с этим можно вспомнить, что у Платона идея блага, будучи одновременно высшим основанием реальности и нашего познания, определяется как «величайшее» (μέγιστον μάθημα, Repub. VI. 505a). Мы оставляем в стороне вопрос о том, заимствовал ли Кузанец характеристики эмпирического бытия как сферы «большего и меньшего» (μάλλον τε και ήττον) непосредственно из Платона – я не нашел в его произведениях непосредственных указаний на то, что он знал платоновский диалог « Филеб», где систематически обоснованы эти определения. Но как раз допустив, что эта идея и форма ее выражения принадлежит самому Кузанцу, мы тем самым еще ярче оттеним ту методическую связь, о которой у нас идет речь. В целом Николай Кузанский восхваляет Платона как единственного мыслителя, который искал Бога на истинном пути «ученого незнания»: «Nemo ad cognitionem veritatis magis propinquat, quam qui intelligit in rebus divinis, etiam si multum proficiat, semper sibi superesse, quod quaerat. Vides nunc venatores Philosophos… fecisse labores inutiles: quoniam campum doctae ignorantiae non intrarunt. Solus autem Plato, aliquid plus aliis Philosophis videns, dicebat, se mirari, si Deus inveniri et plus mirari, si inventus posset propolari». De venatione sapientiae, Cap. XII, fol. 307. – «Больше всех преуспевает в познании истины тот, кто понимает, что, сколь далеко мы ни продвинулись бы в постижении вещей божественных, они всегда будут превосходить нашу способность познания… Ты видишь, что охотники за истиной – философы… заняты тщетным делом, ибо не вступили на поприще ученого незнания. Один Платон, которому открылось больше, чем другим, недоумевал, как можно отыскать Бога, и еще больше – найдя, выставлять Его на торжище».
25
De docta ignorantia I, 3, fol. 2 f.
26
De conjecturis I, 13. О предположениях, 1, 13, 55.
27
«Identitas igitur inexplicabilis varie differenter in alteritate explicatur atque ipsa varietas concordanter in unitate identitatis complicatur… Potius igitur omnis nostra intelligentia ex participatione actualitatis divinae in potentiali varietate consistit. Posse enim intelligere actu veritatem ipsam uti est, ita creatis convenit mentibus sicut Deo proprium est, actum ilium esse varie in creatis ipsis mentibus in potentia participatum… Nec est inacessibilis illa summitas ita aggredienda, quasi in ipsam accedi non possit, nec aggressa credi debet actu apprehensa, sed potius, ut accedi possit semper quidem propinquius, ipsa semper uti est inattingibili remanente» (Ibid.). – «Итак, неразвертываемое тождество развертывается в инакости многообразно и различно, само же это многообразие согласованно свертывается в единство тождества… Таким образом, весь наш разум скорее всего существует в силу причастности к божественной актуальности в потенциальном многообразии. Ведь сотворенным умам присуща возможность познать актуально саму истину, как она есть, как нашему Богу присуще быть той актуальностью, к которой сотворенные умы по-разному причастны в потенции… К этой неприступной вершине надо подходить не так, будто ее невозможно взять, но и не следует думать, что, если к ней приближаются, значит она действительно может быть взята, но скорее так, что к ней можно лишь постоянно приближаться, сама же она, как она есть, остается всегда недостижимой» (там же).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: