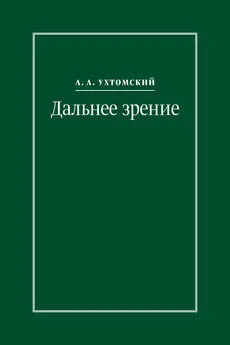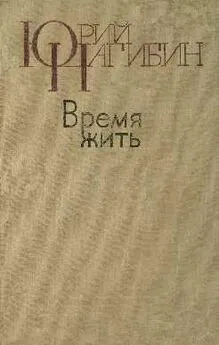Алексей Ухтомский - Дальнее зрение. Из записных книжек (1896–1941)
- Название:Дальнее зрение. Из записных книжек (1896–1941)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ИП Князев
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-9909419-5-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Ухтомский - Дальнее зрение. Из записных книжек (1896–1941) краткое содержание
Дальнее зрение. Из записных книжек (1896–1941) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Пространство всемирной истории четко просматривалось. Ухтомский словно парил над временными и географическими барьерами, и российскую катастрофу воспринял как следствие законов, диктуемых грешному человечеству неподвластной ему Волей. Он судил современность высшим судом, неизбежным «перед концом истории», наблюдая воочию «намекательное стечение признаков», предвещающих гибель и христианской культуры, и европейской цивилизации.
Неудивительно, что Ухтомского дважды арестовывали: 17 ноября 1920 года в Рыбинске безо всяких на то причин и в мае 1923 года в связи с закрытием Никольской церкви в Петрограде.
Тем не менее, в 1922 году Ухтомский с кончиной Н. Е. Введенского принял кафедру физиологии под свое начало и после десятилетних проверок обнародовал наконец свой закон доминанты, что стало, безусловно, звездным часом в его научной биографии.
1920-е годы меняли декорации, государство судорожно перестраивалось под нажимом диктаторских лозунгов, – а жизнь Ухтомского текла своей колеей. Он верой и правдой служил университету, читал общие и специальные курсы на биофаке, завоевав репутацию всеми любимого профессора.
Один из его учеников вспоминал, как победительно выглядел Алексей Алексеевич, шагая по коридору Главного здания: высокий, широкоплечий, импозантный, с окладистой седой бородой и откинутыми назад черными волосами, одетый в длинную суконную рубаху, подпоясанную кожаным тонким ремнем; шел по просторному университетскому коридору четким шагом, громко стуча каблуками сапог, – с поднятой головой, держа в одной руке картуз, в другой ненагруженный портфель: шел, как на праздник, с улыбкой отвечая на приветствия, – читать лекцию…
И это в условиях, когда к концу 1920-х годов Университет и Академия наук утратили даже относительную независимость и оказались под жесточайшим гнетом партийных властей, когда развернулась «классовая борьба на теоретическом фронте» – с идеалистической философией и «мистицизмом», когда после повальных чисток место ошельмованных, арестованных и сосланных ученых занимала «красная профессура», и биофак университета не был тут исключением.
Удары, нанесенные науке в 1930-е годы, превзошли самые мрачные прогнозы. И все же середина 1930-х оказалась для Ухтомского чрезвычайно плодотворной. В 1934 году он возглавил образованный по его инициативе научно-исследовательский Физиологический институт при университете и, определяя стратегию работ, наметил направление «более широкого и общего значения, чем обычный путь классической физиологии», поставив целью изучать проблемы человеческого сознания комплексно, заложив первым в стране основы физиологической кибернетики.
А в 1935 году Ухтомский принял участие в XV Международном физиологическом конгрессе, который проводился в Ленинграде и в Москве. Накануне конгресса издали на английском языке сборник его статей; доклады его учеников тщательно готовились в институте; когда в Ленинград съехались крупнейшие ученые мира, Ухтомский с ними встречался и беседовал; на заключительном заседании в Москве он прочел по-французски блестящий доклад «Физиологическая лабильность и акт торможения».
Весна 1937 года была беспрецедентной по накалу политических провокаций. «Под влиянием „активов“, проходивших у нас в апреле, – жаловался Ухтомский в письме Фаине Гинзбург, – я так устал нравственно и нервно, что уже от небольшого добавочного дела сбиваюсь в состояние острого утомления… мне пришлось просидеть в непрестанном напряжении три дня „актива“ в нашей лаборатории и два дня „актива“ же в Институте Орбели. Это очень тяжело и расточительно для нервной системы старого человека. Между тем предстоят и еще „активы“! Пока мы их проводим, заграница ведет подлинные научные работы, так неузнаваемо перестраивающие нашу науку!..»
В канун 1940-х годов, когда над Европой снова сгущались военные тучи и окончательно обрел силу разноликий фашизм, когда человечеству опять предстояло пройти «через кровь и дым событий», Ухтомскому не давала покоя идея «исторической совести».
«Культура зоологического человека» ничего не обещала, кроме новой полосы одичания. Предстоял очередной фатальный круг катастрофических испытаний, и роптать было бесполезно, потому что усомнился человек в своем высшем предназначении, «оглушился страстями», принял природу за «мертвую и вполне податливую среду, в которой можно распоряжаться и блудить» сколько угодно.
Ухтомский знал, что природа, мир Божий, не потерпят надругательства над собой, ответят на преступления, творимые «просвещенными цивилизаторами», и Россия существенностей непредсказуемо отреагирует на социалистические умствования – рано или поздно.
В мае 1941 года Ухтомский записал в дневнике: «Выдумали, что история есть пассивный и совершенно податливый объект для безответственных перестраиваний на наш вкус. А оказалось, что она – огненная реальность, продолжающая жить совершенно самобытной законностью и требующая нас к себе на суд!»
«Огненная реальность» заполыхала по России, и Ленинград быстро оказался в кольце блокады.
К той поре у Алексея Алексеевича, по его признанию, уже «начало заметно сдавать сердце, наследственный недуг Ухтомских» и до срока обнаружилось «собрание старческих болезней». В письме к В. А. Платоновой 22 июня 1942 года он писал: «Возраст мой для нашей семьи большой и немощи мои в порядке вещей. Жаль, что они совпали со столь трудными, жестокими для отечества и народа днями!.. Всего, всего, всего Вам доброго, прежде всего – дальнего зрения, которое не давало бы ближайшим и близоруким впечатлениям застилать глаза…»
Скончался Ухтомский 31 августа 1942 года и был погребен на Литераторских мостках Волкова кладбища.
Дальним зрением он дорожил больше всего – и в Первую мировую войну, в пору общего расслабления и духовной смуты, и в «отступнические годы» бесчеловечной революции, и позже, размышляя о «мировых траекториях», уносящихся в «темную мглу предстоящей истории». Дабы видеть будущее, он оглядывался далеко назад, в глубь веков…
И. КузьмичевДальнее зрение
из записных книжек
(1896–1941)
1896
Возвращаясь воспоминаниями к прошлому, мы обыкновенно с любовью перебираем пережитое нами. «Все то нам мило, что прошло». Но иногда, напротив, является мысль: как все это незначительно и бесцельно, – даже самое крупное из пережитого нами. Мы сами виноваты, если приходим к такому печальному выводу. Самое великое и задушевное, если мы не сумели воспользоваться им для своего нравственного и вообще духовного роста, теряет для нас цену, но вместе с тем мы теряем и это «великое и задушевное».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: