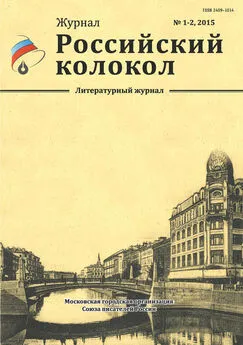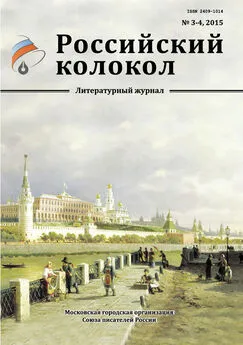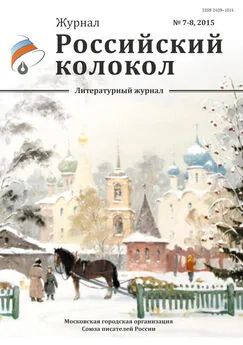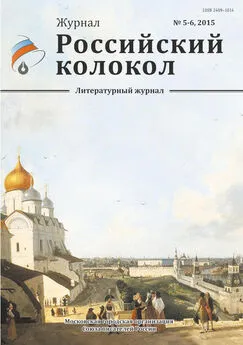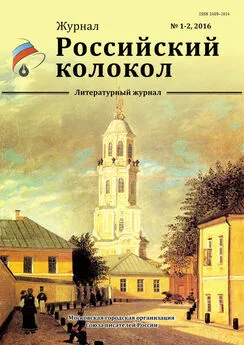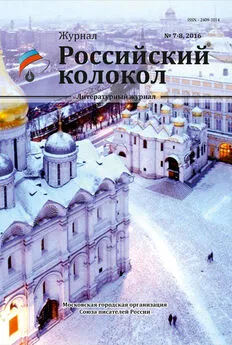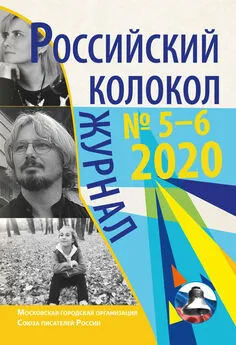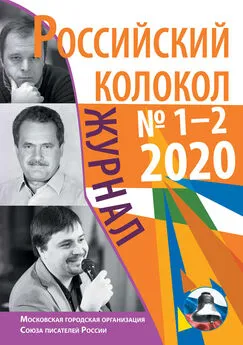Коллектив авторов - Российский либерализм: идеи и люди
- Название:Российский либерализм: идеи и люди
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-093-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Российский либерализм: идеи и люди краткое содержание
2-е издание, исправленное и дополненное.
Российский либерализм: идеи и люди - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А. И. Герцен родился 6 апреля 1812 года в Москве. Он был внебрачным сыном богатого помещика Ивана Александровича Яковлева и немки Луизы Гааг, которую отец Герцена, возвращаясь после многолетнего путешествия по Европе, взял с собою. В 1833 году Александр Герцен окончил Московский университет со степенью кандидата и серебряной медалью. В следующем году за участие в молодежных кружках его арестовали, и девять месяцев молодой человек провел в тюрьме. Он воспоминал: «Нам прочли, как дурную шутку, приговор к смерти, а затем объявили, что, движимый столь характерной для него, непозволительной добротой, император повелел применить к нам лишь меру исправительную, в форме ссылки». Ссылку Герцен отбывал в Перми, Вятке, Владимире и Новгороде. В 1842–1847 годах жил в Москве, где занимался литературной деятельностью; с 1847-го – в эмиграции. Скончался Александр Иванович от пневмонии, 21 января 1870 года в Париже, не дожив до пятидесяти восьми лет. Похоронен в Ницце, рядом с рано умершей женой Н. А. Захарьиной…
Еще в ранней своей работе «Двадцать осьмое января» (1833) Герцен задавался ключевым для цивилизационной идентификации России вопросом: «Принадлежат ли славяне к Европе?» И недвусмысленно отвечал: «Нам кажется, что принадлежат, ибо они на нее имеют равное право со всеми племенами, приходившими окончить насильственною смертью дряхлый Рим и терзать в агонии находившуюся Византию; ибо они связаны с нею ее мощной связью – христианством; ибо они распространились в ней от Азии до Скандинавии и Венеции».
Но далее с необходимостью вставал другой вопрос: если существует славяноевропейское генетическое сродство, почему так велико и разительно различие между наличной Россией и Европой? В той же работе 1833 года автор развивает мысль о том, что дело – в существенном отставании во времени, обусловленном не только неблагоприятными факторами развития России, но и чрезвычайно благоприятными факторами развития Европы. Среди последних Герцен, находившийся тогда под влиянием классической немецкой диалектики, особо выделял следующее обстоятельство: в отличие от России Европа развивалась в условиях сталкивания многообразных противоречий, которые и «высекали искры прогресса». «Доселе развитие Европы была беспрерывная борьба варваров с Римом, пап с императорами, победителей с побежденными, феодалов с народом, царей с феодалами, с коммунами, с народами, наконец, собственников с неимущими. Но человечество и должно находиться в борьбе, доколе оно не разовьется, не будет жить полною жизнью, не взойдет в фазу человеческую, в фазу гармонии, или должно почить в самом себе, как мистический Восток. В этой борьбе родилось среднее состояние, выражающее начало слития противоположных начал, – просвещение, европеизм». Итак, только в борьбе противоречий и складываются прогресс, просвещение, европеизм, развитая цивилизация.
Двойственность России, таким образом, состоит в том, что, будучи по происхождению частью европейской цивилизации, она, лишенная исторического динамизма, «сложившаяся туго и поздно», не развилась в Европу. В силу особенностей своего географического положения («огромное растяжение по земле») и истории, Россия оказалась более склонна к «восточному созерцательному мистицизму» и «азиатской стоячести»: «В удельной системе не было ни оппозиции общин, ни оппозиции владельцев государю… Двухвековое иго татар способствовало Россию сплавить в одно целое, но снова не произвело оппозиции. Основалось самодержавие – а оппозиции все не было».
Эта же мысль об односторонности и дефицитности продуктивного противоречия в русской жизни будет впоследствии прослеживаться в работе «О развитии революционных идей в России»: «В славянском характере есть что-то женственное; этой умной, крепкой расе, богато одаренной разнообразными способностями, не хватает инициативы и энергии. Славянской натуре как будто недостает чего-то, чтобы самой пробудиться, она как бы ждет толчка извне».
Именно здесь находил молодой Герцен разгадку того мощного цивилизационного импульса, который был задан российскому обществу преобразованиями Петра Великого – человека «с наружностью и духом полуварвара», но «гениального и незыблемого в великом намерении приобщить к человеческому развитию страну свою». Гений Петра, по Герцену, заключается именно в том, что он впервые породил в России оппозицию … в своем собственном лице: «Явился Петр! Стал в оппозицию с народом, выразил собою Европу, задал себе задачу перенесть европеизм в Россию и на разрешение ее посвятил жизнь». Бесспорная заслуга этого царя – в честном осознании бесперспективности косной московской Руси, в понимании необходимости ее « очеловеченья »: «В этом невежественном, тупом и равнодушном обществе не чувствовалось ничего человеческого. Необходимо было выйти из этого состояния или же сгнить, не достигнув зрелости».
Принято считать, что Герцен долгое время оставался в России одним из лидеров «западнической партии». Но, как представляется, изначальный выбор в пользу «западничества» служил для него не столько рычагом односторонней и тотальной победы над «самобытниками», сколько способом наиболее результативного решения проблемы продуктивного синтеза в России «новации» и «традиции». Ведь не зря он неоднократно подчеркивал двуединство комплекса «западничество–славянофильство» и то глубинно-общее, что объединяло «друзей-недругов»: «Головы смотрели в разные стороны – сердце билось одно».
По всей видимости, раннего Герцена не устраивала в «славянофильстве» вовсе не защита «традиции» как таковой, а неконструктивность упора на реанимацию порушенной и к тому же мифологизированной традиции, неспособность славянофилов продуктивно разрешить потенциально живительное противоречие «традиция–новация». Западник Герцен и сам не утаивал свою основную претензию к славянофильству: он видел в нем скорее «инстинкт» и «оскорбленное народное чувство», нежели полноценное «учение» или – тем более – «теорию». Поэтому и «западничество» для него имело смысл не столько как партия, добивающаяся одностороннего выигрыша, сколько как более осмысленный (т.е. более рациональный), чем у славянофилов, путь к достижению продуктивной интегральной формулы в конфликте традиции и новации. Ведь изначальная посылка русских западников, по мнению Герцена, исторически бесспорна: «Кнут, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутенов и фухтелей». А потому более осмысленна и плодотворна и конечная цель «европейцев»: «Европейцы… не хотели менять ошейник немецкого рабства на православно-славянский, они хотели освободиться от всех возможных ошейников».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: