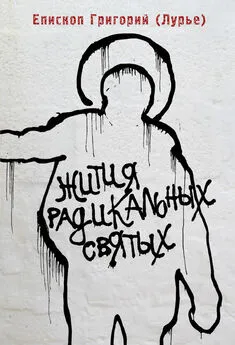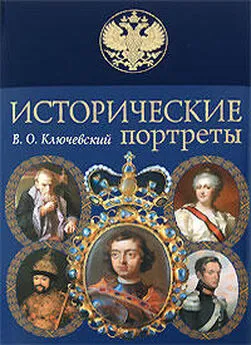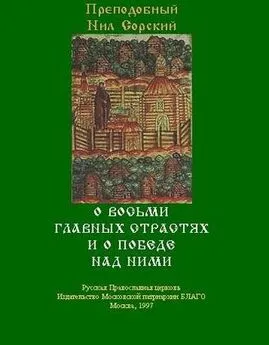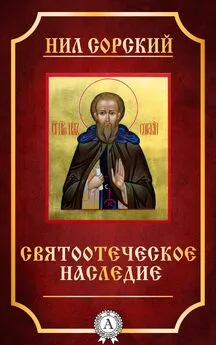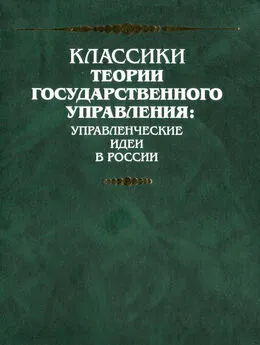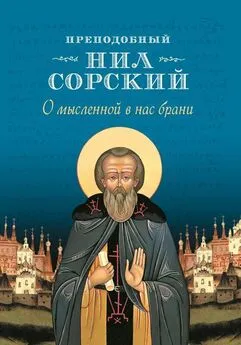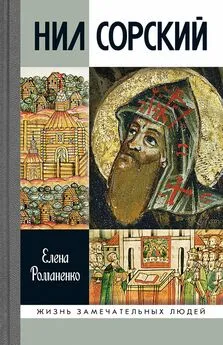Епископ Григорий (Лурье) - Жития радикальных святых: Кирилл Белозерский, Нил Сорский, Михаил Новоселов
- Название:Жития радикальных святых: Кирилл Белозерский, Нил Сорский, Михаил Новоселов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «5 редакция»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-71288-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Епископ Григорий (Лурье) - Жития радикальных святых: Кирилл Белозерский, Нил Сорский, Михаил Новоселов краткое содержание
Именно этой аскетической православной традиции нужно приписать само сохранение православия в России до наших дней. Именно такие истории и судьбы лучше всяких учебников веры дают понимание того, что такое христианство и что значит быть православным христианином.
Жития радикальных святых: Кирилл Белозерский, Нил Сорский, Михаил Новоселов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Понятно, что Кирилл, при всех своих интеллектуальных интересах, о которых мы еще поговорим, таким человеком не был. Как мы уже заметили, он понимал необходимость изнурения плоти, а точнее, необходимость дисциплины – а для этого тоже некоторого изнурения – ума. Дело в том, что и само изнурение плоти нужно только для изнурения ума.
Медитации
Самое очевидное объяснение этой необходимой для монаха постоянной занятости, конечно, состоит в том, что нужно избегать праздности, порождающей все пороки, и нужно изнурять плоть, чтобы она поменьше воевала на дух. Даже из этого объяснения видно, что плотское делается для духовного. Но главное состоит в том, что привязанность нашего размышления к работе, пусть даже механической, становится якорем для ума (выражение из монашеского лексикона IV века): ум из-за этого еще не может остановить свое непрестанное блуждание, но перестает носиться совсем уже где попало.
Тут самое время спросить: а зачем, собственно, это нужно – ставить ум на якорь? Ответ: чтобы быть с Богом.
Это, кстати, должно быть очевидно для интеллигентного человека. Мы ведь очень не любим, когда наш собеседник постоянно отвлекается от нашего с ним разговора, отворачивается от нас, отбегает куда-то, звонит по мобильнику (а может быть, еще и говорит с полным ртом, сплевывает шелуху от семечек…). Мы не ожидаем от такой формы диалога особенной эффективности. Если мы сами так же ведем себя с Богом, то тоже особого взаимопонимания не наладится. Но попробуй-ка вести себя с Богом иначе, то есть молиться со вниманием. А если еще и молиться постоянно, то есть постоянно иметь некую память Божию? Очевидно, что для этого нужно как-то меняться, и очевидно, что это делается постепенно и как-то не очень просто. Кстати, очевидно и другое: что опыт сколько-нибудь внимательной молитвы или сколько-нибудь постоянной памяти Божией в течение дня – это опыт, совершенно выходящий за рамки общечеловеческих представлений, так как при нормальной человеческой жизни он совершенно недоступен. Из обычной жизни с ее рассеянностью ума, прыгающего по случайным объектам, увлекаемого случайными мелодиями, договаривающего случайные оборванные или не состоявшиеся диалоги, его просто не увидать. Но это именно тот опыт, ради которого Кирилл был так привязан к своей поварне и который он стал понемногу терять, перейдя к более свободной жизни офисного работника.
Для освобождения ума от всего того мусора, которым он обычно переполняется, если его ничем не отгораживать, как раз и нужны все переносившиеся Кириллом депривации. А для заполнения ума тем, для чего ум изначально был предназначен, нужно то, что теперь называлось бы «медитации». В языке латинского монашества первого тысячелетия meditatio – эквивалент греческого монашеского термина «мелети», обычно переводившегося на славянский как «поучение». «Сокровенное поучение», которое монах должен всегда носить в сердце своем (а иначе лучше бы ему и не становиться монахом), – это не столько размышление о чем-то полезном для души (хотя и без него обойтись нельзя), сколько, прежде всего, внутренняя молитва, обычно опирающаяся на какие-нибудь молитвенные слова. Монашество эпохи Кирилла предпочитало для этого формулы «Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй мя» или «Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй мя».
Если мы просто повторим эти формулы, то едва ли – разве что особым чудом – поймем, что так гнало Кирилла в поварню. Но если повторять их молитвенно и со вниманием, не оставляя своих житейских обязанностей и, наряду с этой медитацией, не забывать и о депривациях, – то, возможно, мы узнаем нечто иное. Во всяком случае, Кирилл-то узнал.
В этот момент внимательный, но скептически настроенный читатель уже готов мне поверить, что монашество в норме построено вовсе не на садистическо-мазохистических отношениях, до которых оно так часто извращается. Такой читатель теперь, возможно, будет склонен считать, что подлинное, а не извращенное монашество сродни особой форме наркомании, когда организм переключается в режим стабильного вырабатывания эндорфинов (которые, как известно, сродни опиатам). Биохимически он, возможно, будет прав, но тут дело совершенно не в биохимии, потому что тут дело не в эмоциях. Даже люди, испытывающие положительные эмоции от встречи друг с другом, все-таки могут и должны понимать – хотя это и не всегда так бывает, – что главное тут не их эмоции, а сам факт их встречи и сам факт их существования. Почему же и с Богом не быть тому же самому?
Маленькие хитрости
Но внимательная христианская жизнь никогда не обходится без противопоставления себя коллективу, особенно если этот коллектив сам себя считает христианским. Чтобы этого противопоставления не возникло, не существует вообще никаких средств. Нельзя избежать неизбежного. Существуют разные пути, чтобы возникающее тут напряжение как-то ослабить или переработать. Разумеется, на все случаи жизни средств нет. Монахам положено скрывать друг от друга (за исключением своего духовника) свою духовную жизнь, и Кириллу на его поваренном послушании при отличном от всех режиме дня это делать было легче. Он довольно много лет успешно держался. Но в не очень большом общежитии невозможно сделать так, чтобы про тебя вообще ничего не знали, да и архимандрит Феодор, у которого как раз тогда (конец 1370-х гг.) стало возникать особенно много церковно-политических дел, видимо, уже начинал перекладывать на Кирилла какие-то ответственные поручения. Феодор должен был знать о духовном устроении Кирилла и от своего дяди – Сергия Радонежского.
Это означало, что давшееся с такими трудами равновесие с окружающей средой непоправимо нарушено. Необходимо что-то менять. Скорее всего, проблемы совсем уже обострились после того, как Кирилл лишился своего старца Михаила, которого забрали на Смоленское епископство (1383). Кирилл лишился привилегии ничего не решать самому, а обо всем спрашивать старца. А тут как раз надо было что-то решать.
В таких случаях чаще всего выбирают стратегию минимизации внешних перемен: ты стараешься оставаться на своем прежнем месте, но теперь как-то корректируешь поведение. Этим путем пошел и Кирилл.
Он локализовал главную проблему – особое отношение к нему со стороны архимандрита. И выбрал соответствующую стратегию – начал специально его сердить и с ним ссориться. Житие, написанное Пахомием Логофетом, сообщает об этой истории как-то туманно, но мы можем, во всяком случае, понять, что солидный мужчина в возрасте под 50 начал как-то нарочито чудить, демонстративно нарушая монастырскую дисциплину. Пахомий пишет, будто целью Кирилла было получать монастырские наказания (епитимии) в виде постов и поклонов, которые он таким образом мог невозбранно совершать, ни от кого не таясь и не опасаясь выглядеть чересчур аскетичным. Отчасти оно, может, и так. Но все же тут трудно не увидеть, что в первую очередь такое поведение било по особому положению Кирилла в монастыре, которое уже начало формироваться из-за слишком уважительного отношения к нему настоятеля.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: