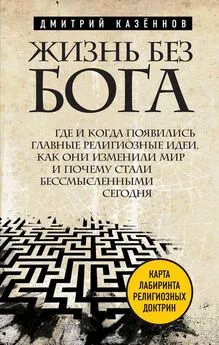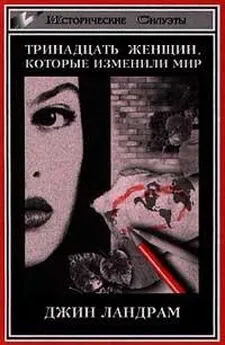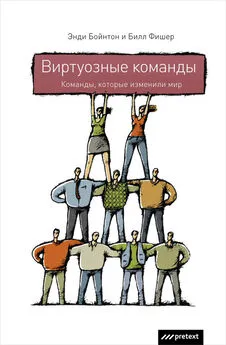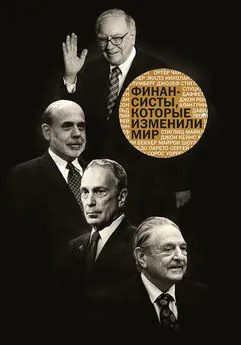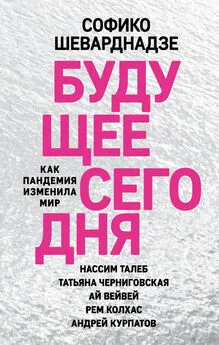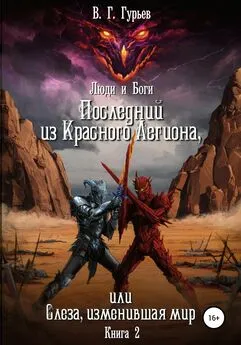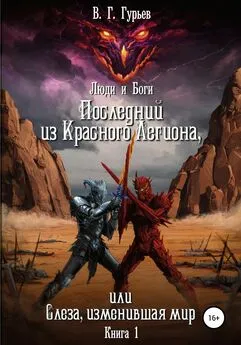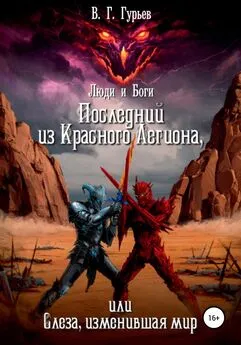Дмитрий Казеннов - Жизнь без бога. Где и когда появились главные религиозные идеи, как они изменили мир и почему стали бессмысленными сегодня
- Название:Жизнь без бога. Где и когда появились главные религиозные идеи, как они изменили мир и почему стали бессмысленными сегодня
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «5 редакция»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-62859-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Казеннов - Жизнь без бога. Где и когда появились главные религиозные идеи, как они изменили мир и почему стали бессмысленными сегодня краткое содержание
Жизнь без бога. Где и когда появились главные религиозные идеи, как они изменили мир и почему стали бессмысленными сегодня - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Платон связывает влюбленность с влечением к красоте, а влечение к красоте с идеей прекрасного самого по себе. Прекрасное – это идея, но человек получает представление о прекрасном при помощи чувств. Конечно, Платон рассуждает в «Федоне» и «Федре» о сверхъестественном мире, как о более прекрасном, чем видимый мир, но его описания «земли на берегу воздуха» или «колесниц богов, которые хорошо управляемы» содержат обыденные примеры и аналогии. Это еще один факт, который следует отметить: типичное рассуждение об идеалах начинается с конкретных вещественных примеров. В «Федре» конкретным поводом для рассуждения о прекрасном является внешний вид мальчиков-подростков (говоря о нравах античности, нужно иметь в виду, что расхожее понятие «платонические чувства» вовсе не означает целибат). Это порождает проблему конфликта желаний: с одной стороны, главный конфликт платонизма – это конфликт идеального и материального, но, с другой стороны, влечение к прекрасному в данном случае имеет телесный характер. Поэтому высокая и низкая стороны влюбленности и изображаются как кони в упряжке: «Из коней, говорим мы, один хорош, а другой нет. А чем хорош один и плох другой, мы не говорили, и об этом надо сказать сейчас. Так вот, один из них прекрасных статей, стройный на вид, шея у него высокая, храп с горбинкой, масть белая, он черноокий, любит почет, но при этом рассудителен и совестлив; он друг истинных мнений, его не надо погонять бичом, можно направлять его одним лишь приказанием и словом. А другой – горбатый, тучный, дурно сложен, шея у него мощная, да короткая, он курносый, черной масти, а глаза светлые, полнокровный, друг наглости и похвальбы, от косм вокруг» [18] Платон. Федр. С. 194–195.
.
Конфликт этих двух воображаемых животных – узнаваемая, наглядная и запоминающаяся аллегория. Каждый наверняка знаком с тропом религиозного мифа о восседающих на плечах ангеле и демоне. Для Платона эта аллегория – способ изобразить любовные отношения как нечто подобающее его идеализму. Но в более широком смысле перед нами миф о морали и о человеческой природе.
Однако в этом же диалоге Сократ спрашивает Федра: «Так вот, когда оратор, не знающий, что такое добро, а что – зло, выступит перед такими же несведущими гражданами с целью их убедить, причем будет расхваливать не тень осла, выдавая его за коня, но зло, выдавая его за добро, и, учтя мнения толпы, убедит ее сделать что-нибудь плохое вместо хорошего, какие, по-твоему, плоды принесет впоследствии посев его красноречия?» [19] Платон. Федр. С. 203.
Платон полагает себя оратором, знающим, что такое добро и что такое зло. Философия, по его мнению, тем и отличается от простой риторики, что основывается на знании. Единственный важный вопрос относительно всей платонической философии заключается в том, обоснованы ли претензии Платона на обладание знанием?
Когда Парменид в одноименном диалоге обращается к Сократу, они приходят к выводу, что «если кто… откажется допустить, что существуют идеи вещей, и не станет определять идеи каждой вещи в отдельности, то, не допуская постоянно тождественной себе идеи каждой из существующих вещей, он не найдет, куда направить свою мысль, и тем самым уничтожит всякую возможность рассуждения» (Платон. Парменид 428). Диалог «Парменид» является одним из самых сложных среди работ Платона (многие рассуждения запутанны, а выводы сомнительны), поскольку касается соотношения идей с другими идеями и идеях таких соотношений (устами Зенона приводится апория, порождающая бесконечную редукцию отношений идей к новым идеям: если у двух идей есть что-то общее, это тоже является идеей). Главная тема – «о едином и многом», то есть о идее, объединяющей все существующее, по отношению к которой не должно быть никаких других идей, включая подобие и существование. Проблема «единого» у Платона интересна потому, что тесно связана с поиском первоначальной стихии в натурфилософии, первопричиной у Аристотеля и собственно представлениями о боге в христианском богословии. В рассматриваемом диалоге Парменид приходит к заключению, что поскольку единое не может быть множественным и таким образом не должно иметь пределов, начала и конца, то оно «не причастно времени и не существует ни в каком времени», а что самое интересное, не принадлежит идее бытия. О нем вообще трудно сказать что-то определенное (это очень противоречивая абстракция), хотя нельзя заключить, что оно и не существует: «если единое не существует, то ничего не существует». Это совершенно очевидным образом за столетия до Вселенских соборов предопределяет форму рассуждений христианских отцов церкви о боге, включая тринитарную антиномию и апофатическое богословие восточнохристианской мистической традиции (мистические богословы описывали бога как тьму и небытие, «не-сущее»).
Есть причины, по которым рассуждения о боге завораживают воображение
Кажущиеся лишенными всякого смысла платоновские поиски определения «единого» могут стать значительно понятнее и ближе нам, если задуматься, почему обобщение доставляет нам удовольствие. Предположим, способность нашего мозга обобщать опыт и вырабатывать типичные поведенческие привычки для множества случаев полезна. Это позволяет вырабатывать полезные благоприобретенные навыки. Общие правила для множества ситуаций – это большая экономия сил и потенциально эффективный способ приспособления. Выгоднее запомнить простой и эффективный способ расколоть орех, изготовить орудие, распознать чужие намерения. Язык, мифология и наука с этой точки зрения – способы адаптации. Платонические абстракции – общие для множества единичных вещей качества. Среди прочего абстракция, как мне кажется, обобщает «эмоциональный вес» каждого отдельного предмета в нашей памяти. Если отдельные ситуации, в которых мы оказывались или о которых слышали, производили на наше воображение какое-то действие, то собирательные понятия, обозначающие такие ситуации, должны иметь суммарный эмоциональный вес. Поэтому рассуждения о судьбе вообще или человеческой природе вообще завораживают воображение. Рассуждение о боге или рассуждение о Восхождении увлекают многих по этой же простой причине. Я полагаю, что и для Платона имели такое же огромное значение рассуждения о красоте самой по себе, благе самом по себе или «идее единого». Ведь это идея идей! Марксистов завораживает мысль о том, что им доступно знание, определяющее ход истории, человеческие судьбы и намерения самых могущественных людей. Фрейду нравилась мысль о том, что он угадал механизмы, определившие культуру. Этот же принцип определяет нашу реакцию на художественные произведения, отвлеченные или иносказательные поэтические образы или кажущиеся нам драматичными сцены литературных произведений. Подросткам в особенности свойственно рассуждать о жизни и смерти – у них мало конкретного опыта, но уже довольно богатое воображение и вполне взрослые амбиции (или это наши амбиции остаются детскими?). Когда я снова читаю Диалоги Платона или рассуждения богословов вроде Фомы Аквинского, их рассуждения напоминают мне плохую литературу: слишком много общих фраз. Мне сразу же вспоминаются слова Ницше о том, что чем более общим является понятие, тем более оно является пустым. За логикой платоновских персонажей, говорящих о идее «единого», сложно внимательно следить, каждый отдельный шаг их рассуждений понятен, но общий смысл их усилий стремительно теряется из виду! Разумеется, разговор о чем-то настолько общем и, следовательно, общезначимом завораживает целевую аудиторию. Что может быть важнее по отдельности, чем все сразу? Зачем быть героем, если можно быть мудрецом, «знающим» и судьбу героя, и все остальные возможные судьбы? Дело не в том, что даже названия ролей «героя» и «мудреца» звучат архаично, просто нас не может не преследовать мысль о том, что где-то по дороге к подобным рассуждениям человеческий мозг совершает вполне конкретные ошибки и далее продолжает работать вхолостую, как мозг крысы в этологическом эксперименте.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: