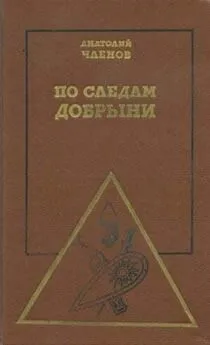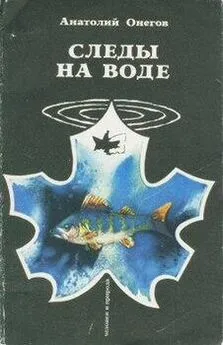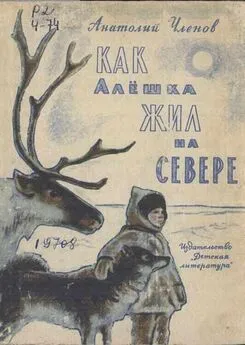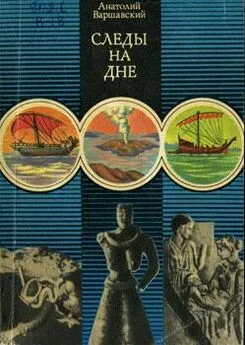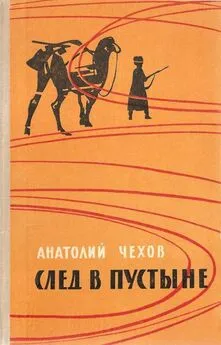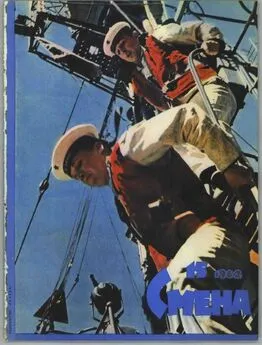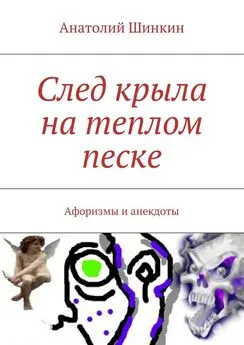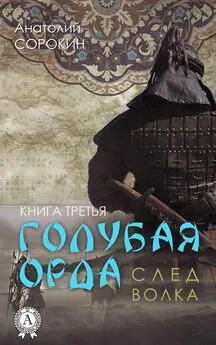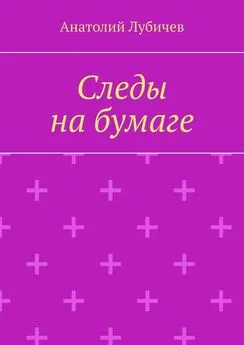Анатолий Членов - По следам Добрыни
- Название:По следам Добрыни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Физкультура и спорт
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Членов - По следам Добрыни краткое содержание
Автор книги, журналист, знаток древней русской истории, действительный член Географического общества СССР, рассказывает о своих путешествиях по местам, где в X веке жил и действовал Добрыня – прототип героя русских былин Добрыни Никитича, реально существовавший человек, совершавший ратные подвиги во славу родной земли.
По следам Добрыни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Династическое право действует даже сейчас. С какой же силой оно действовало в X веке! Я привожу столь подробно примеры из сферы династического права, абсолютно чуждого широким кругам советских читателей, затем, что я в поездке как раз по X веку. Затем, что читателям необходимо вжиться в понятия далекой языческой (но нимало не отсталой, а, напротив, передовой) Руси. Иначе понять эпоху и страну 945 года будет невозможно. И в династическое право вжиться так же необходимо, как в систему территориальных богов или в психологию многоженства знати.
Каково же в свете династического права было положение Рюриковичей? Оно было двойственно по той же причине, что у Уильяма I: в теории первые Рюриковичи были славяне, ибо правили в славянской стране, на деле же все они до Ольги были варягами и вели себя как варяжские узурпаторы. Но в отличие от Нормандской или Анжуйской династии в Англии Рюриковичи никогда не могли похвастать заморским титулом , ибо не имели его. Дом Рюрика, как это ни странно, в теории вообще не был варяжским – за отсутствием первой коронной земли династии в Скандинавии. Это обстоятельство облегчило Ольге возможность спасти династию – в качестве славянской .
Для этого Ольга задалась целью, так сказать, вывернуть наизнанку железную рукавицу, которой правил до того дом Рюрика, – и династическое право давало ей возможность такого толкования. Ольга была, как мы видим, великолепным знатоком и толкователем династического права.
Но и Добрыня, как мы увидим позже, также великолепно усвоил династическое право. Он усвоил его еще в отцовской школе, но приумножил это знание в школе Ольги.
И Ольга действительно сумела вывернуть железную рукавицу так основательно, что в конце концов фантастический варяжский брак не явился для Древлянского дома предательством славянского дела, а стал вполне приемлем. А Мал и Добрыня отличались не меньшей принципиальностью, чем Ольга, слово чести всех их было равно нерушимо.
Две березы. Каков же был конец князя-волка, Игоря Рюриковича? Ответ дает мне Игоревка – и притом с такими подробностями, которых невозможно вычитать ни в одной книге.
– Так вон оно, место, – говорит мне хуторянин Игоревки, – где его древляне в болото загнали. А вон там, неподалеку, росли те две березы. Разговор был короткий, тут же князя, что вздумал наш Коростень осаждать, и казнили. Пригнули березы к земле, привязали его к ним, а потом березы отпустили… Вот так-то. А лежит он вон где, – хуторянин машет рукой в другую сторону, – тоже далеко ходить не стали, тут же и похоронили. И телохранителей-варягов – вокруг него.
Две березы… Позорная казнь князя-волка… Весть о судьбе, постигшей Игоря, дошла до далекой Византии, с которой он не раз воевал и которой незадолго до похода на Коростень пришлось откупаться от него данью. Казнь его известна как раз из книги византийского придворного историка X века Льва Диакона. Оттуда известен и характер казни.
Но в русской летописи берез этих нет. И ни казни, ни даже плена сына Рюрика тоже нет. Только глухо сказано, что древляне убили его во время вылазки из Коростеня. Случайно погиб старчески безрассудный государь в стычке, в бою… В глазах кого-то из более поздних князей-самовластцев такая версия была, конечно, куда благовидней. Справедливая казнь преступного государя восставшим народом по приговору земельной думы?.. О нет, такой опаснейший прецедент лучше из летописи выкинуть… Случайности боя, всего лишь случайности боя, а в бою ведь всякое приключиться может.
В летописи двух берез нет. Но здесь, в Игоревке, место их знает каждый. И вряд ли потому, что здешние крестьяне в прежние времена читали изданные в Петербурге ученые переводы византийских хроник. (Кстати говоря, точное место, где росли знаменитые березы, в византийских хрониках все равно не обозначено; нет там и названий ни Игоревки, ни Шатрища.) Просто потому, что здесь память об этих событиях и точном месте их передавалась с тех самых пор из уст в уста.
Две березы… Летописное умолчание о казни Игоря, естественно, не обманывало историков, ее-то они знали из Льва Диакона. Но они не знали истинного размаха и характера восстания Мала и потому, если и обращали на эту казнь внимание, считали ее просто проявлением варварских нравов эпохи. На самом деле две березы – крупное историческое событие.
В военном отношении картина ясна. Князь-волк пойман… Исполнение приговора Древлянской думы без промедления, тут же, на месте, и погребение здесь же, у берега Ужа, – все это ложится в картину событий. Мешкать было некогда – гражданская война в державе была в полном разгаре. И за преступную политику Игорь был уже осужден Древлянской думой до этого. Казнь была по условиям войны немедленной и нарочито позорной, но – законной.
И еще более важно, чем соответствие военной обстановке, политическое значение казни. Во-первых, она наглядно демонстрировала, что древлянская конституционная теория подтверждается на практике, что древляне не шутят и что если уж князь-волк заслуживает низложения и казни, то древляне постараются приговор не оставить пустыми словами. Во-вторых, в свете легенды о гибели Олега Вещего и ее связи с Первым Древлянским восстанием против того же сына Рюрика, Игорь приговорен, а стало быть, и казнен за прегрешения перед Русью не только лично свои, но и всей «волчьей» Варяжской династии.
И в-третьих, две березы – событие мирового значения. Оно стоит в одном ряду с упоминавшимися уже осуждением и казнью Чарлза I Английского. Речь идет о праве подданных судить своего государя за деспотизм, приговаривать к смерти и казнить. И эта зрелость политической мысли, до которой Англия дошла только в XVII веке, была проявлена Русью уже в X веке. Чарлз I судом своих подданных, пишет Грин, «был приговорен к смерти как тиран, изменник, убийца и враг своей страны» [42]. Убедиться в параллелизме с приговором князю-волку 945 года не составляет труда.
Само название Игоревки тоже идет прямехонько из 945 года и отражает местные события. Не только именем, но и его формой. Это не «Игорево», в честь князя. А именно пренебрежительное «Игоревка». Место, где он получил по заслугам.
Курган у берега Ужа. Вот он, курган, окруженный кольцом могил. Отборные воины варяжской гвардии Игоря, взятые в плен вместе с ним, с ним же и казненные… Это о них писал когда-то в одной из своих «Дум» Рылеев. Мысль поэта-декабриста обращалась к давним страницам русской истории, и одну думу он посвятил урокам восстания Мала. В ней Ольга приводит юного Святослава на могилу отца и говорит ему, что тот сам виновен в своей гибели, ибо поплатился за угнетение народа.
Я стою сейчас перед тем самым курганом, о котором писал Рылеев. Курган расположен возле берега Ужа. Он невысокий и заметно пострадал от времени.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: