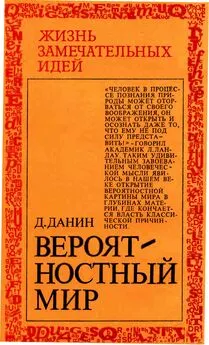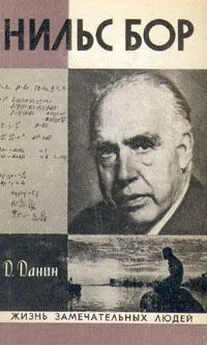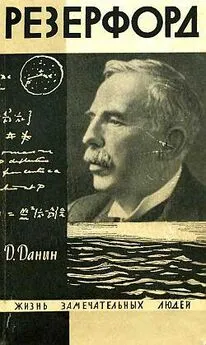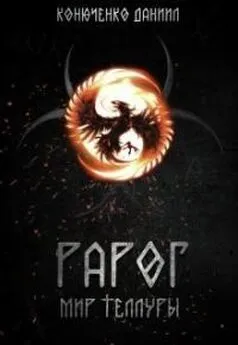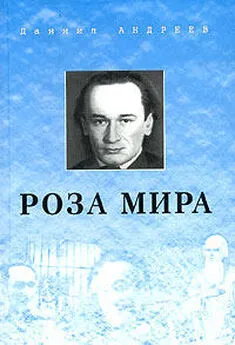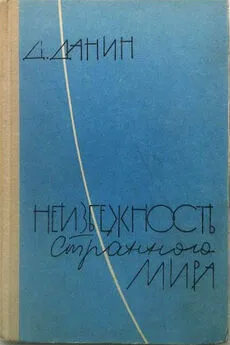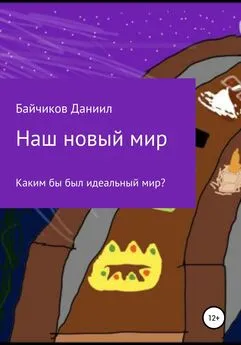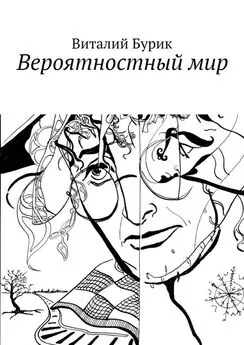Даниил Данин - Вероятностный мир
- Название:Вероятностный мир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Знание
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Даниил Данин - Вероятностный мир краткое содержание
14 декабря 1900 года впервые прозвучало слово «квант». Макс Планк, произнесший его, проявил осторожность: это только рабочая гипотеза. Однако прошло не так много времени, и Эйнштейн с завидной смелостью заявил: квант — это реальность! Но становление квантовой механики не было спокойно триумфальным. Здесь как никогда прежде драма идей тесно сплеталась с драмой людей, создававших новую физику. Об этом и рассказывается в научно–художественной книге, написанной автором таких известных произведений о науке, как «Неизбежность странного мира», «Резерфорд», «Нильс Бор». Собирая материал для своих книг, автор дважды работал в архиве Института теоретической физики в Копенгагене.
Книга научно–художественная. Для широкого круга читателей.
Вероятностный мир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Покатые валуны… ревущий прибой… пенные гребни… Право же, у Северного моря было еще больше шансов, чем у Цюрихского озера, настроить ищущую мысль на волновой лад. Но Гейзенберг искал в ином направлении. А потому иными глазами видел прибрежный пейзаж: обрывы скал… провалы в морской пучине…
Он думал об электроне–частице. И квантовые прерывности принимал за данность природы: ни в каком оправдании посредством непрерывных волн они для него не нуждались. Квантовые скачки не отпугивали его своей необъяснимостью. Так же не отпугивали, как и Вольфганга Паули, чьим приятелем был он со студенческих лет в Мюнхене.
Оба учились у Арнольда Зоммерфельда, любившего «квантовые волшебства в спектрах». И, может быть, он внушил им свою былую неприязнь к «частным моделям». А заодно внушил и свою пифагорейскую страсть к гармонии квантовых чисел, которую в Мюнхене иронически называли «атомистицизмом».
Но оба выдающихся погодка — Гейзенберг был на год младше Паули — в несравненно большей степени считали себя духовными учениками Нильса Бора. К 25–му году оба успели поработать у него ассистентами в Копенгагенском институте. Оба успели почувствовать и то, что Зоммерфельда заботила, как он сам говаривал, «техника квантов.», и то, что Бор погружен был в поиски «философии квантов». Громадная одаренность помогла обоим юношам выше оценить второе.
Гейзенберг приехал в Геттинген после зимы в Копенгагене. Он переполнен был волевою жаждой решительной ломки прежних понятий, как сформулировал это чуть позднее Бор. И, отправляясь в гельголандское уединение, уже знал, что хотел найти…
Простой была его исходная мысль: не должна ли механика микромира оперировать только наблюдаемыми величинами?
Почему только наблюдаемыми? А потому, что есть в этом странном микромире величины, принципиально не поддающиеся наблюдению. Пытаться включать такие величины в описание тамошних событий бесцельно: описание будет бесконтрольным. Хуже того, физически бессодержательным, ибо останется неизвестным, что же при этом описывается.
Квантовые скачки — главные события во внутриатомной механике. Но они — явные нарушения в непрерывности движения электронов. И потому заранее обречены на неудачу попытки описывать на традиционный лад — как перемещения во времени и пространстве — эти электронные скачки. Впрочем, нисколько не лучше обстоит дело и с орбитальным движением электронов.
Допустима поясняющая параллель.
Когда в классической астрономии речь идет о планетных орбитах, астрономы знают, о чем они говорят: движения освещенных Солнцем планет наблюдаемы. И величины в формулах доступны измерению. А когда физики–атомники говорят об электронных орбитах, их выручают лишь рассуждения по сходству: сами эти орбиты наблюдению неподвластны. Осветить и засечь электрон в полете нельзя: падающие на него кванты, соизмеримые с ним по массе, сразу собьют его с пути, и дальше нечего будет измерять. Так и небесная механика потеряла бы достоверность и стала беспомощной, если бы потоки солнечного света были способны сталкивать планеты с предписанных этой механикой небесных дорог.
Гейзенберг полагал, что с ним заодно история физики XX века. Разве не отказался Эйнштейн признавать абсолютное время — единое для всех движущихся тел — именно потому, что никакой эксперимент, даже мысленный, не мог бы доказать его существования?! Нет Времени, а есть времена. Все они относительны, связаны с движением тел. Только ими и должна оперировать истинная механика.
Резерфордовский образ электронов–планет, возможно и даже наверное, не более чем иллюзия. Что наблюдаемо? Лишь то, что атом изменяет свою энергию прерывисто. Эта прерывистость ручается за существование в атоме лестницы разрешенных природой уровней энергии. О недробимых скачках по этой лестнице свидетельствует испускание света целыми порциями: квантами. Вот необманное знание.
Что при этом доступно измерению? Частоты и амплитуды колебательных процессов, каким–то образом происходящих в атомах и порождающих кванты излучения. О частотах и амплитудах спектральные линии рассказывают своим цветом и своей яркостью. Частоты сообщают об энергии квантов: чем выше частота, тем энергичней квант. Амплитуды сообщают о вероятностях испускания квантов: чем размашистей амплитуда, тем больше вероятность испускания. (Оттого и яркость линии сильнее.) Вот необманные величины.
Наборы таких наблюдаемых величин дают достоверную информацию о важнейших происшествиях в жизни атома — о квантовых переходах между устойчивыми его состояниями… Не с этого ли надо начать построение механики микромира?
Так решил Гейзенберг. Точнее, так можно оголить до предметно понятной схемы суть его замысла.
Еще до того, как полетела цветочная пыльца, он принялся по–своему строить теорию атома. Разумеется, как и Бор, как и Шредингер, простейшего атома: водородного. Но в Геттингене у него ничего не вышло. Сначала он заблудился.
По–видимому, это случилось с ним в точности тогда же, когда и Шредингер заблудился в весенней Арозе. (Историки могли бы уточнить это прелюбопытнейшее совпадение.) Но причины их осечек были даже внешне несхожи. Шредингер не знал о существовании нового физического факта. А Гейзенберг не ведал о существовании старого математического аппарата для исчисления таких величин, как пунктирные наборы наблюдаемых переменных.
Физика подобными вещами не занималась. Ее прежний опыт помочь молодому теоретику не мог. Оставалось взяться за поиски нужной формы для записи математическими символами этих наборов. И оставалось изобрести способ ими оперировать. Гейзенберг за это и взялся.
Макс Борн потом восхищенно говаривал примерно так:
— Каким талантливым невеждой надо было быть, чтобы не знать подходящего раздела математики и самому создать пригодный математический аппарат, раз уж он тебе понадобился!
Еще до бегства на Гельголанд Гейзенберг нащупал основу.
В принципе возможны квантовые переходы между любыми двумя уровнями энергии в атоме. Значит, следовало в единой записи охватить все мыслимые квантовые скачки по энергетической лестнице. Это походило на задание — дать форму для записи всех результатов турнира, когда каждый играет с каждым. Тут участники турнира — стационарные состояния. Они занумерованы квантовыми числами. Результаты матчей между ними — испускание или поглощение квантов.
Годится квадратная турнирная таблица для отражения сразу всех возможностей. Одна таблица для частот. Другая таблица для амплитуд.
Уже на Гельголанде случился день — море, уединение, тишина, — когда впереди замаячило решение. Потом наступил вечер. Почти через сорок лет Гейзенберг рассказал историкам:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: