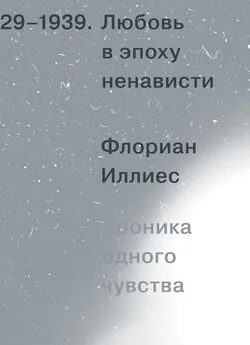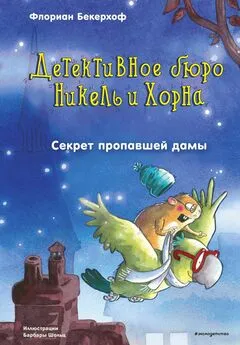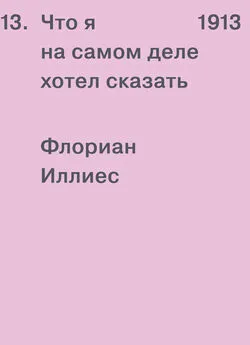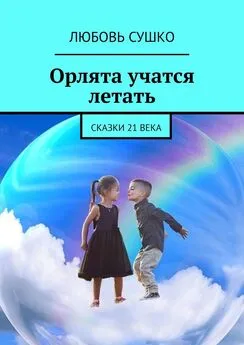Флориан Иллиес - 1913. Лето целого века
- Название:1913. Лето целого века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Ад маргинем»fae21566-f8a3-102b-99a2-0288a49f2f10
- Год:2013
- Город:М.:
- ISBN:978-5-91103-165-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Флориан Иллиес - 1913. Лето целого века краткое содержание
Перед вами хроника последнего мирного года накануне Первой мировой войны, в который произошло множество событий, ставших знаковыми для культуры XX века. В 1913-м вышел роман Пруста «По направлению к Свану», Шпенглер начал работать над «Закатом Европы», состоялась скандальная парижская премьера балета «Весна священная» Стравинского и концерт додекафонической музыки Шёнберга, была написана первая версия «Черного квадрата» Малевича, открылся первый бутик «Прада», Луи Армстронг взял в руки трубу, Сталин приехал нелегально в Вену, а Гитлер ее, наоборот. покинул. Автор, немецкий критик и эссеист, сменивший во время последнего кризиса место работы с газеты на аукционный дом, а круг интересов – с острой злободневности на старое искусство, создал увлекательнейшую панораму оживленной культурной жизни времен рождения модернизма. В прессе книгу назвали «громадным тизером» XX века и самым живым напоминанием о том, как то, что представлялось данностью, оказалось хрупким, даже беззащитным.
1913. Лето целого века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:

Людвиг Майднер. Апокалиптический пейзаж (Еврейский музей Франкфурта-на-Майне, архив Людвига Майднера).
В районе Берлина Николасзее, перед городскими воротами, на краю заколдованного поля с косулями, на улице Кирхвег, 27 и 28 почти синхронно завершается строительство двух особенных вилл: «Дома Штерна» Германа Матезиуса для президента банка Юлиуса Штерна, а по соседству – вилла архитектора Вальтера Эпштейна для, возможно, самого значительного писателя-искусствоведа Юлиуса Мейер-Грефе, который благодаря наследству, успеху на книжном рынке и торговле произведениями искусства скопил определенное состояние. Пока возводился особняк, Мейер-Грефе ездил со стройплощадки в город, чтобы часами позировать Ловису Коринту – выйдет особый портрет, объединяющей двух важнейших немецких фигур художественной жизни эпохи fin de siecle.
Дом Мейер-Грефе в Николасзее дышал французским шиком, элегантностью и определенной дородностью, он был идеально подогнан под пятидесятилетнего хозяина и его жену (кстати, пару лет спустя архитектор Эпштейн post mortem стал тестем Мейер-Грефе, так как его дочь Аннемари стала третьей женой этого искусствоведа… но сейчас это способно лишь сбить нас с толку). Здесь, на Кирхвег, 28, «за городом на природе», как Мейер-Грефе определил свой дом в письмах художнику Эдварду Мунку, в 1913 году родилась центральная работа по истории искусства: «История развития современного искусства», которая начнет издаваться с 1914 года.
Над письменным столом Мейер-Грефе висел огромный Делакруа – «Лев, пожирающий лошадь», а в прихожей стоял бюст работы Лембрука – «Оборачивающаяся женщина». За эстетикой мебели и всего убранства следил Рудольф Александр Шредер, близкий друг Мейер-Грефе. Вилла представляла собой весьма франкофильский, хорошо выдержанный гезамткунстверк [10], сказочный замок. Но уже как раз не maison moderne.
И без того пора уже покончить в этом году с модерном: понятие это настолько гибкое, всякий раз по-новому трактуется современниками и потомками, каждое поколение норовит поместить его в новые временные рамки, – что не годится для того, чтобы должным образом передать ту неслыханную неодновременную одновременность, которая составляет 1913 год.
Дом Юлиуса Мейер-Грефе в Берлине как раз и был таким храмом сбивающей с толку одновременности: в столовой висели картины Эриха Клоссовски, рисующего историка искусств и друга Мейер-Грефе с Монмартра – славнейший поздний импрессионизм (но вот Бальтазар, четырехлетний сын Клоссовски, всегда завороженно наблюдавший за рисованием картин для Мейер-Грефе, стал потом под именем Бальтюс одним из великих бесславных французских художников – вот как оно бывает, отцы и дети). Мейер-Грефе уже тогда был легендарной фигурой, спорной из-за того, что без оглядки вступался за искусство заклятого врага – Франции. Уже в первом издании «Истории развития» он назвал Дега, Сезанна, Мане и Ренуара четырьмя столпами модерна. Так и получилось, что крылатое слово «мейергрефство» стало означать чрезмерную склонность ко всему французско-импрессионистскому и критическое отношение к немецкому искусству. И вот, спустя пятнадцать лет, как была закончена первая версия текста, возникла совершенно новая – потому что художники, как написал Мейер-Грефе, повзрослели (как в первую очередь и сам автор).
Но будьте осторожны. Возраст в делах вкуса часто оказывается щекотливой категорией. Не устаешь удивляться и поражаться, как часто самые пылкие пропагандисты авангарда зацикливаются на одной-единственной художественной революции. Стоит прийти новому поколению, на фоне которого прежний авангард покажется устаревшим, как пропадает вдруг и сила мысли, и неподкупность «взгляда». Когда же на смену приходит новое поколение, заставляющее последний авангард выглядеть устаревшим, то зачастую вместе с ним уже не приходит ни знание, ни рассудок, ни неподкупное «видение». Так и здесь. Этот Мейер-Грефе, в одиночку открывший немцам глаза на Делакруа, Коро, Сезанна, Мане, Дега и на кого еще только ни открывший, этот Мейер-Грефе сидит в 1913 году в своем загородном доме и невозмутимо записывает: «В будущем при имени Пикассо историк замрет и признает: здесь все закончилось». Конец. Нельзя и представить, что после кубизма, разрушившего все формы, можно двигаться дальше. Великий автор – возможно, самый пылкий стилист художественной критики века и блестящий повествователь «развития» искусства – глубоко убежден, что оно подошло к концу. Там, где для нас оно лишь берет начало.
Весьма кстати в «Новом обозрении» Мейер-Грефе печатает статью «Что нас ждет?», наделавшую немало шуму. Важный посредник между народами, чуть ли не на тридцать лет переливший искусство и художественное ремесло французов в эстетическое сознание Германской империи, разражается приступом ярости по отношению к современному искусству из Германии – и Франции. Немецких экспрессионистов, то есть перебравшихся в Берлин художников «Моста» и мюнхенскую группу «Синего всадника», он называет «обойщиками». Он в ужасе от «склонности многих современных художников ко всему конструктивному и декоративному». А это не что иное, как однозначные признаки упадка, пишет Юлиус Мейер-Грефе (в то время как в Мюнхене Освальду Шпенглеру в безобразиях искусства и культуры мерещится «закат Европы»). Молодые экспрессионисты не занимаются традицией, они необразованны, сетует Мейер-Грефе: «Они плоские в любом отношении – как художники и как люди».
Искусствовед в ужасе – и по праву! – от берлинских экспрессионистов и их пропагандистов, таких, как Карл Шефлер. В ужасе и от того, что этот мастер языка перед лицом кошмаров, которыми устлана современность, утрачивает способность здраво мыслить. Но – и это верный признак накала французско-немецких отношений в 1913 году – во Франции статья «Что нас ждет?» также не вызывает бурных оваций. Пусть дифирамбы французскому импрессионизму в очередной раз отчетливо доносятся до самой Сены, «Нувель ревю франсез» весьма сложным образом чует опасность. Журнал полагает, что и Мейер-Грефе постепенно превращается в националиста – именно потому, что так яро критикует немецких экспрессионистов. Ибо он «так строг к культуре империи, потому что избрал ее для того, чтобы завладеть нашим наследием и подчинить ее власти остальную Европу». Такие страхи витают в Париже anno 1913.
Федеральный совет Германской империи дает одобрение на то, чтобы в 1913 году Пруссия начеканила памятных монет на 12 миллионов марок. Они призваны напомнить о восстании Пруссии против французского господства в 1813 году, а также о двадцатипятилетнем юбилее правления немецкого кайзера Вильгельма II 15 июня.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
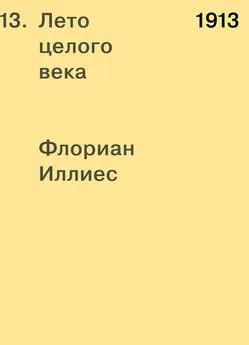
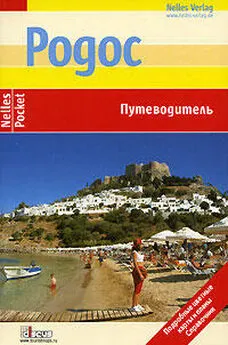
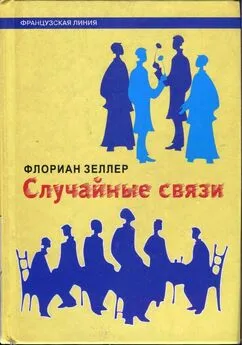
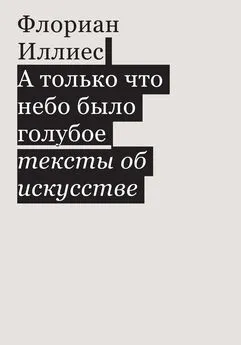
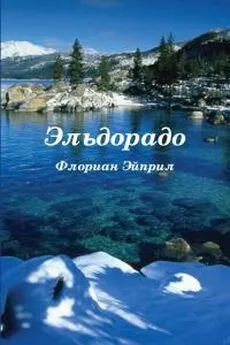
![Флориан Эйприл - Элеонора [СИ, калибрятина]](/books/1094493/florian-ejpril-eleonora-si-kalibryatina.webp)