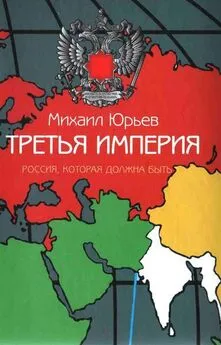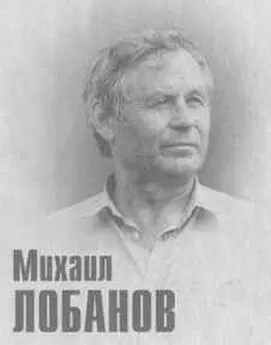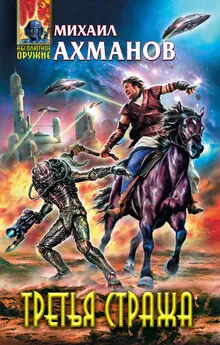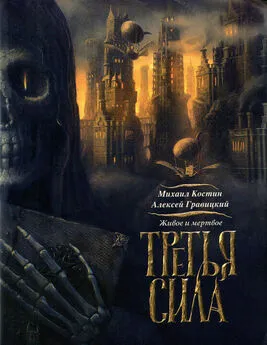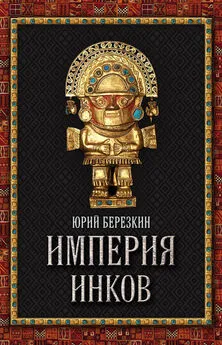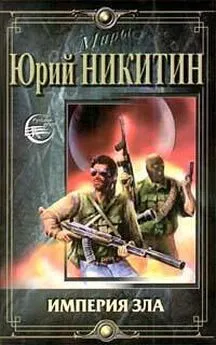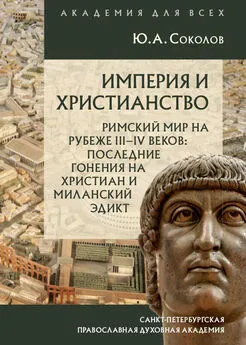Михаил Юрьев - Третья Империя
- Название:Третья Империя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лимбус Пресс
- Год:2007
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-8370-0455-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Юрьев - Третья Империя краткое содержание
Мир бесконечно далек от справедливости. Его нынешнее устройство перестало устраивать всех. Иран хочет стереть Израиль с лица земли. Америка обещает сделать то же самое а отношении Ирана. Мусульмане жгут пригороды Парижа. Все страны ужесточают иммиграционное законодательство. Японцы, считая себя высшей азиатской расой, презирают Китай. Но Китай — объективно будущая сверхдержава. Черные режут друг друга в Африке… Такое уже бывало в ХХ веке в мировой истории, когда все страны и народы были недовольны своим положением и друг другом — накануне Первой мировой войны. И Второй… Следовательно? Третья мировая война неизбежна, как неизбежно новое устройство мира по окончании этой войны! О том, какая это будет война и как после нее будет устроен этот мир, захватывающе, детально, даже дотошно, доказательно и смело описал Михаил Юрьев в своей новой книге «Третья Империя». Мир будет поделен между пятью сверхдержавами, утверждает М. Юрьев. И Россия — одна из них.
Третья Империя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Это мое наблюдение по поводу двух народов не ново — об этом писали многие мыслители — и русские, и иностранные, еще в XVIII, XIX и начале XX века. И в начале нашего века известный российский государственный и общественный деятель того времени Альфред Кох справедливо писал, что это разделение никуда не делось и в демократической Российской Федерации и вовсе не коррелирует с принадлежностью человека к высшим или низшим классам — что по имущественному, что по социальному положению. Но удивительно, что и сейчас, после триумфа России и полного поражения от нее западной цивилизации (а следовательно, и либерализма), это все равно сохранилось. Причем дело здесь совсем не в разбавлении российского народа западноевропейцами — их среди тех, кого я здесь называю «европейцами», особенно среди активной их части, не так уж и много, в силу полной исторической деморализации, а немцы так и вовсе еще большие «евразийцы», чем русские. И так же, как во времена Коха, нет однозначных социальных корреляций — и тех и других хватает во всех слоях общества, разве что «европейцев» больше среди так называемой творческой интеллигенции, то есть, по-нашему, богемы. Общее же их количество я бы обозначил как процентов восемь—двенадцать от населения, не меньше, при том что и отчетливых «евразийцев» не более тридцати—сорока процентов, а остальные не имеют четких взглядов или имеют промежуточные. То есть «европейцы», конечно, составляют меньшинство, но их вовсе не ничтожно мало, и их противостояние с большинством достаточно острое, хотя и не носит пока насильственных форм; я не представляю, когда и как это противостояние кончится. Хотя по ходу изучения русской истории меня не покидает мысль, что это противостояние есть проявление неразрывной диалектической связи между ними и они не могут существовать друг без друга, как инь и ян, мне тем не менее кажется, что это весьма чревато социальными катаклизмами, вплоть до революции.
Такая поляризация по взглядам вполне может сыграть в революционной ситуации роль, которую обычно играет поляризация по доходам (она-то как раз в России не так и велика). Власть понимает это не хуже меня — когда я удостоился аудиенции с начальником Имперского управления безопасности, знаменитой Алевтиной (урожденной Альфией) Ицхаковой — по мнению очень многих, кстати, следующим императором, — она спокойно подтвердила: «Да, это враги. Не такие, как вы, китайцы или исламисты — те просто противники, — а именно последовательные, многовековые враги, с которыми тесно на одной планете, тем более в одной державе. Они — слуги Сатаны, вольные и невольные, имя которым легион. И не надо недооценивать их опасность — их предшественники подготовили все, чтобы свалить в 1917 году Российскую Империю, а в 1991 году — СССР. Да, они слабы, но их темный хозяин помогает им». — «И что же вы собираетесь делать?» — спросил я. «Третий раз разрушить Империю мы им не дадим, как не дали в тридцать седьмом году, — ответила Ицхакова, имея в виду подавленный Михаилом Усмирителем мятеж 2037 года. — Но с другой стороны — что с ними делать? Начни их масштабно давить, и они тут же приобретут ореол борцов и мучеников, а у остальных возникнет ощущение общей угнетенности, что стране вовсе ни к чему. Нет, уж лучше так, как делают с нарывом — ждут, пока созреет, а потом уж безжалостно прижигают каленым железом». — «То есть вы дождетесь их выступлений, или даже спровоцируете их, и тогда будете их убивать? — опешил я. — Но ведь это ваши граждане, и их очень много». — «Когда выходишь на бой с врагами, — усмехнулась Ицхакова, и я понял в этот момент, почему эту женщину, притом редкой красоты, боятся даже ее товарищи, — их не пересчитываешь. Их убиваешь, пока не убьют тебя или пока они не побегут».
Пусть этот разговор послужит неким отрезвлением для тех из вас, дорогие соотечественники, у кого из предыдущих глав сложилась уж слишком благообразно-безоблачная картина российской жизни.
4. Сословия в сравнении друг с другом
Три российских сословия — это три совершенно разных образа веры, мыслей и действий, которые в своем синтезе и представляют российскую нацию в целом. Причем то, что их именно три, — совершенно закономерно, их не могло быть два или пять, и не случайно, что во всех сословных обществах прошлого, от Древней Индии до средневековой Европы, существовали те же три сословия. (Наличие четвертых, соответственно шудр и сервов, было связано с существованием рабства или полурабства — без него они ничем бы не отличались от третьего сословия.) Это связано с тем, что на основные онтологические вопросы человеческого бытия имеется три варианта ответа — они и отличают сословия друг от друга.
Начнем с представления о главном смысле индивидуальной жизни и главном средстве достижения этого смысла — то есть с вопроса о том, для чего человек живет. Для первого сословия это спасение, для второго — власть (но помните, что для опричников власть — это служение), а для третьего — успех. Главным же средством, главным индивидуальным качеством, необходимым для этого, у первого сословия является вера, у второго — сила, а у третьего, как это ни жестко звучит, — себялюбие (во всех трех случаях не считая, разумеется, личных способностей).
Можно поставить вопрос по-другому: не для чего, а для кого человек живет? Духовенство живет для Бога, опричники — для державы, а земцы — для себя (или своих близких — в таком контексте это все равно для себя). Возможно, это звучит слишком однозначно — ведь люди многих профессий, скажем врачи, учителя, социальные работники, имеют полное право заявить, что они живут для других людей, — но русские понимают это именно так, как я написал. Твоя работа может приносить пользу другим людям, так и должно быть, но это работа, за которую тебе платят, и — главное! — в случае твоего профессионального успеха и вознаграждение, и слава будут твоими; это не называется жить ради других.
В подобном ключе становится совершенно ясно, почему первым, вторым и третьим называются духовное, служилое и податное сословия, а не наоборот: это вытекает из русской иерархии ценностей: Бог — держава — человек. И естественность этой иерархии прекрасно иллюстрируется тем, как идут процессы перехода из сословия в сословие: из третьего сословия люди уходят и во второе, и в первое, становясь опричниками или духовенством; из второго опричники нередко уходят в первое, чаще в монахи, и почти никогда в третье; члены же духовенства практически никогда не уходят из своего сословия.
Из разных жизненных приоритетов проистекает и разное отношение к деньгам, к богатству: для всех земцев деньги — объект желания (с разной силой, но для всех), для опричников — объект презрения (в силу противоположности идей богатства и власти), а для духовенства — объект безразличия (как поется в любимой в первом сословии песне, сочиненной иеромонахом Романом, «я ничего с собою не возьму, / и потому мне ничего не нужно»). И к коллегам по сословию отношение разное: для церковных людей все остальные церковные люди — единоверцы, так же как для опричника все остальные опричники — единомышленники, и в этом их богатство. У земцев же есть только друзья и партнеры, которых по определению не может быть очень много, а просто другие земцы для них никто.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: