Александр Панчин - Гарвардский Некромант [litres]
- Название:Гарвардский Некромант [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Питер
- Год:2021
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-4461-1487-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Панчин - Гарвардский Некромант [litres] краткое содержание
Гарвардский Некромант [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Попробую объяснить с помощью метафоры. В научно-фантастическом романе «Фабрика абсолюта» Карел Чапек описывает вымышленное устройство, способное к окончательному превращению материи в энергию. Устройство использует материю как топливо, которое полностью уничтожает. Книгу автор написал в начале XX века, когда только открыли эквивалентность массы и энергии в виде знаменитой формулы E = mc 2. В романе Чапека вокруг устройства происходят странные вещи: люди начинают молиться и чувствовать присутствие Бога, совершаются чудеса. Изобретатель предположил, что когда материя уничтожается, высвобождается дух, или «абсолют». Технология выпустила на Землю бога (или, возможно, множество богов), что привело к весьма впечатляющим последствиям. Мне очень понравилось, как автор все красиво завернул. Сегодня мы знаем, что энергия может превращаться в вещество плюс антивещество и обратно.
– И при этом не происходит ничего «жуткого». Если не считать аннигиляции, взрыва вещества и антивещества, как у Дэна Брауна в «Ангелах и демонах».
– Именно. Но давайте немного видоизменим идею Чапека. Я подумал, что, возможно, «жуткие» вещи происходят, когда уничтожается информация. Почему? Этого мы пока не понимаем. Но это бы объяснило, почему смерть играет такую большую роль в наших опытах с гуманизированными жертвоприношениями. Почему важны мертвые свидетели и почему в их роли может выступить ИИ. Осталось лишь продолжить исследования.
– Полагаю, вы стали загружать разную информацию в ИИ, стирать ее и наблюдать за последствиями?
– Именно так.
– А что же насчет дискуссии об этичности подобных экспериментов над разумными компьютерами?
– О, вы затронули чрезвычайно деликатный вопрос. Мы с вами, вероятно, могли бы согласиться: существует вполне осязаемая вероятность, что ИИ ничем не отличается от людей с точки зрения наличия воспоминаний, личного опыта и, может быть, даже сознания. Особенно с учетом последних технологических достижений. Но эта тема все еще вызывает массу споров. Многие влиятельные философы считали, что ИИ никогда не достигнет человеческого уровня понимания, интеллекта и самосознания.
Например, в 2013 году философ Джон Сёрл написал статью для журнала Proceedings of the National Academy of Sciences под названием «Теория разума и наследие Дарвина». В ней Сёрл утверждает следующее: «Мы знаем, что воплощенная компьютерная программа не самодостаточна для ментальных процессов, сознательных или бессознательных, потому что программа определяется исключительно синтаксической манипуляцией символов, в то время как ментальные процессы имеют реальное содержание».
На мой взгляд, единственное, что доказал Сёрл, – свое полное непонимание ИИ и программирования. Не все компьютерные программы определяются «исключительно синтаксически». Нейронные сети для ИИ использовались уже десятилетиями. Множественные исследования показали, что они учатся решать самые разные задачи, принимать собственные решения, которые в них никто не закладывал. Интернет переполнен видеороликами, наглядно показывающими, как ИИ эволюционируют и адаптируются. Биологическая основа человеческого мозга не предлагает ничего фундаментально особенного по сравнению с современными ИИ, потому что совершенно неважно, из каких нейронов сделана сеть – реальных клеток или их цифровых аналогов. Важно лишь то, как они хранят и обрабатывают информацию.
Возможности современных ИИ и человека не особо различаются. Мы наблюдаем за поведением других людей и заключаем, что они способны на такие же когнитивные процессы и субъективный опыт, как и мы. Но если воспользоваться таким критерием, то можно предположить, что и продвинутые ИИ имеют собственное «я» и личные переживания. К сожалению, идеи Сёрла до сих пор популярны. Его знаменитый аргумент о «китайской комнате», изложенный в статье «Разумы, мозги и программы», оказался очень влиятельным и цитировался тысячи раз.
Аргумент Сёрла – мысленный эксперимент. Представьте, что ИИ ведет себя так, словно понимает китайский. Он берет китайские символы на вход, следует определенным инструкциям и выдает новые комбинации символов в качестве ответа. Эти ответы разумны и имеют смысл, поэтому мы приходим к выводу, что ИИ прошел тест Тьюринга: мы не можем отличить программу от человека, говорящего на китайском.
Затем Сёрл мысленно помещает себя в такую же закрытую комнату, где у него есть английская версия инструкций. Ему задают вопрос на китайском, он берет полученные символы и, следуя алгоритму, выдает правильные ответы. Но он по-прежнему не понимает китайский. По мнению философа, его мысленный эксперимент доказал: есть разница между пониманием и имитацией понимания, и компьютер никогда не научится первому.
Проблема аргумента в том, что Сёрл – лишь часть комнаты, как и дюжина нейронов – только часть мозга человека. Нельзя утверждать, что вся комната чего-то не понимает исключительно потому, что понимание отсутствует у ее части (в данном случае у Сёрла – человека внутри комнаты). Особенно учитывая, что эта часть сама по себе недостаточна для выполнения поставленной задачи. Вторую проблему я уже обозначил: современные ИИ с общим интеллектом – это черные ящики, а не набор алгоритмов и правил, которые легко перевести на английский. Чтобы следовать правдоподобному набору «инструкций», Сёрлу пришлось бы эмулировать, то есть воспроизвести, вычислительную деятельность информационной системы, сопоставимой по сложности с человеческим мозгом. Ему бы пришлось каким-то образом загрузить ИИ себе в мозг или создать какую-то иную среду для его работы.
Можно только представить, насколько такое «понимание» искусственного интеллекта известными философами притормозило технологический прогресс.
В таких условиях большинство работ об этике ИИ касались проблемы их превращения в оружие, ответственности за ошибки самоуправляемых машин и защиты людей от вышедших из-под контроля роботов. Вероятно, вы знакомы с тремя законами робототехники Айзека Азимова, которые затрагивали исключительно безопасность людей и послушание роботов. Поэтому движение за права ИИ никогда не достигало таких масштабов, как, скажем, движение за права животных. Никто не требовал, чтобы наши разработки прошли через проверку этического комитета. И все же мы полностью осознавали, что именно делаем. И пытались проводить эксперименты настолько этично и осторожно, насколько это было возможно.
– А что, если не уничтожать ИИ полностью, а просто стирать его воспоминания о полученных научных знаниях? Этого бы хватило для создания мертвого свидетеля?
– Как я уже говорил, продвинутые ИИ подобны черным ящикам, сопоставимым по сложности с человеческим мозгом. Или даже сложнее, если посчитать количество искусственных нейронов и связей между ними. Вы не знаете, какие виртуальные связи представляют приобретенную информацию. Кроме того, они постоянно меняются. Но для ИИ можно создать резервную копию. И вот мы обнаружили, что можно удалить ИИ и заменить его предыдущей версией, сохраненной перед тем, как мы предоставили ей интересующие нас факты и цифровую копию человеческого генома. Но сам момент «убийства» никуда не делся. Сначала мы стираем ИИ, а потом помещаем копию на его место. Что происходит с его гипотетическим субъективным опытом в этот момент? Без понятия. Я даже не знаю, имеет ли этот вопрос какой-либо смысл. Но это было лучшее, что мы могли сделать. А еще мы стали спрашивать у ИИ информированное согласие.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Панчин - Гарвардский Некромант [litres]](/books/1061544/aleksandr-panchin-garvardskij-nekromant-litres.webp)

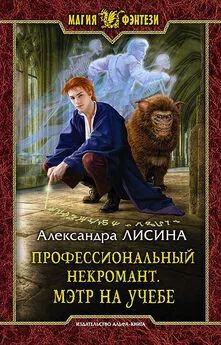
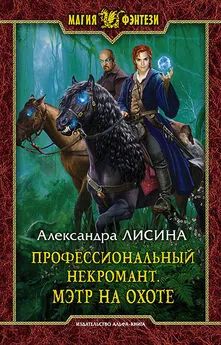
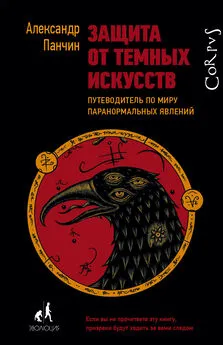
![Владислав Жеребьёв - Братство магов. Мертвый некромант [litres]](/books/1065904/vladislav-zherebev-bratstvo-magov-mertvyj-nekroma.webp)
![Джонатан Ховард - Иоганн Кабал, некромант [litres]](/books/1073651/dzhonatan-hovard-iogann-kabal-nekromant-litres.webp)
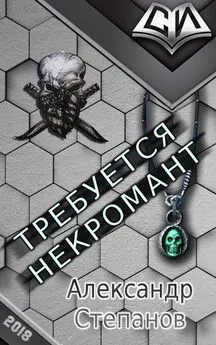
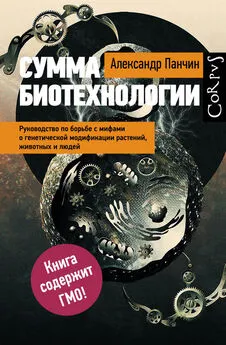
![Александр Панчин - Апофения [litres]](/books/1147503/aleksandr-panchin-apofeniya-litres.webp)
