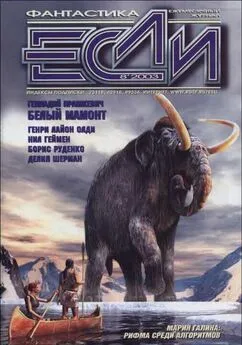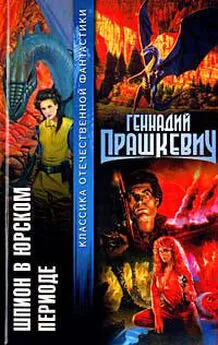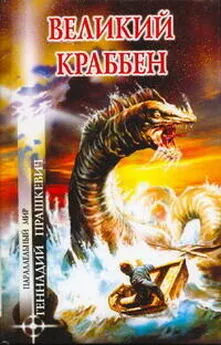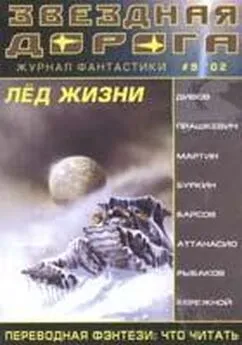Геннадий Прашкевич - «Если», 2003 № 08
- Название:«Если», 2003 № 08
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО Любимая книга
- Год:2003
- ISBN:0136-0140
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Прашкевич - «Если», 2003 № 08 краткое содержание
Ежемесячный журнал
Содержание:
Геннадий Прашкевич. БЕЛЫЙ МАМОНТ, повесть
Литературный портрет
*Владимир Борисов. «МНЕ ПОВЕЗЛО: Я ЗНАЮ ОЗАРЕНЬЕ…», статья
Святослав Логинов. О ЧЁМ ПЛАЧУТ СЛИЗНИ, рассказ
Делия Шерман. РУБИН «ПАРВАТ», рассказ,
ВЕРНИСАЖ
Александр Павленко. РИСОВАННЫЕ ЛЕНТЫ МЁБИУСА, статья
Борис Руденко. ИЗМЕНЁННЫЙ, рассказ
Наталия Ипатова. ДОМ БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА, рассказ
ВИДЕОДРОМ
*Тема
--- Сергей Кудрявцев. ВЗГЛЯДЫ, КОТОРЫЕ УБИВАЮТ, статья
*Рецензии
*Рейтинг
--- Вячеслав Яшин. 100 ГЕРОЕВ, статья
Нил Геймен. ДЕЛО СОРОКА СЕМИ СОРОК, рассказ
Генри Лайон Олди. ЦЕНА ДЕНЕГ, повесть
Том Холт. СПАСТИСЬ ОТ МЕДВЕДЕЙ, рассказ
Майкл Кэднэм. ОБИЛЬНАЯ ЖАБАМИ, рассказ
Мария Галина. МУЗА В ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ, статья
Экспертиза темы
Владимир Михайлов, Андрей Валентинов, Николай Светлев
Крупный план
*Эдуард Геворкян. ЛЬВЫ ГАЯ КЕЯ (статья), рецензия на роман Г. Г. Кея «Львы Аль-Рассана
Рецензии
Крупный план
Леонид Кудрявцев. ЗА СТОЛЕТИЕ ДО АРМАГЕДДОНА, рецензия на несуществующий роман Алексея Джерджау «Канонада Армагеддона»
Владислав Гончаров. «ЧИТАЮ БЕЗ СЛОВАРЯ, НО С ТРУДОМ», статья
Кир Булычёв. ПАДЧЕРИЦА ЭПОХИ (продолжение серии историко-литературных очерков)
Курсор
Персоналии
Обложка Игоря Тарачкова к повести Геннадия Прашкевича «Белый мамонт».Иллюстрации Игоря Тарачкова, Е. Капустянского, В. Овчинникова, Жана Жиро (Мебиуса), А. Филиппова, С. Голосова, А. Балдина, С. Шехова, А. Акишина
«Если», 2003 № 08 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Из последней фразы, хотя и столь же неграмотной, как и предполагаемые произведения, следует главное: отныне запрет на фантастику снимается. Читатель, бесправие которого не безгранично (потому что обязать его платить деньги за то, что он не хочет читать, невозможно), заставил вернуть фантастику в нашу страну. Исчезла она лишь на три года, но, возродившись, уже не могла стать такой, как прежде.
Основные требования читателей в анкете: «Верните Александра Беляева». Редакция была вынуждена признать, что это общее требование, и обещание было дано.
Выяснилось, что именно Беляев, морально сосланный, подобно Суворову, в свое Кончанское (в командировки на рыбные промыслы и строительство Днепрогэса), нужен для «победы отечественного оружия». Возникла ситуация, когда, кроме Беляева, писателей, готовых подхватить растоптанное знамя фантастики 20-х годов, не оказалось. Для читателей «Вокруг света», большей частью школьников, студентов и молодых инженеров, воспитанных уже при советской власти, Беляев был кумиром, певцом науки, куда более интересным, нежели Толстой с его марсианскими революциями, либо Грин с мечтой об алом парусе. Это были жизнерадостные молодые люди, еще не поделившиеся на жертв и палачей второй половины 30-х.
Возвращение Беляева еще не означало возвращение фантастики. Ведь Беляев и те, кто должен был работать рядом с ним, были поставлены в жесткие рамки правил старой детской игры: «Да» и «нет» не говорите, черного, белого не берите».
Правила новой игры накладывали новые вериги на писателя.
И тут появилась первая советская утопическая повесть, которую следовало рассматривать как указание свыше.
Повесть была написана не фантастом и даже не литератором.
Автором ее был напуганный своим меньшевистским прошлым и опалой у некогда расположенного к нему Сталина публицист Карл Радек. Радек, остроумный и изобретательный человек, решил ударить в литавры так нагло, что даже Вождь застыл бы в изумлении.
Он написал фантастическую повесть «Зодчий социалистического общества», в которой фантастическим был лишь подзаголовок: «Девятая лекция из курса истории побед социализма, прочитанного в 1967 году в школе междупланетных сообщений в пятидесятую годовщину Октябрьской революции».
Лекция была скачком в славословии, ступенькой в развитии жанра панегирика Сталину. Это одно из первых произведений о вожде, где не скрывается его божественное величие. Только прислушайтесь: «К сжатой, спокойной, как утес, фигуре нашего вождя шли волны любви и доверия, шли волны уверенности, что там, в мавзолее Ленина, собрался штаб будущей победоносной мировой революции».
Радек не ошибся. Сталину «фантастическая» лекция действительно понравилась. Отпечатана она была четвертьмиллионным тиражом, к тому же частями или целиком перепечатана многими журналами и газетами.
Я думаю, хитроумный Радек отыскал важную деталь, которая порадовала сердце вождя: он объявил всему народу, что в 1967 году Сталин будет жив, здоров, славен, что все эти высокопарные слова будут произносить и тогда, через тридцать четыре года после написания «лекции». Сталину в 1933 году было пятьдесят четыре — ну, что ж, он кавказец, восемьдесят восемь — это еще не возраст.
Была в «лекции» и еще одна хитрость, которую вождь, конечно же, уловил, но пока оставил без последствий, и она внушила Раде-ку ложное чувство безопасности: ведь автором-то «лекции» был Карл Радек, а значит, и в 1967 году он будет славить вождя с трибун.
В самом-то деле к этому времени он будет уже почти тридцать лет как замучен сталинскими палачами. Лекция его не спасла. Но сделала свое дело в создании культа «небожителя».
В «лекции», кстати, употреблен эпитет, на котором все мы потом воспитывались. Сталин там впервые назван «Великим зодчим социализма».
У Радека есть указание писателям-фантастам: все, что делается в стране, — это воля Сталина, ум Сталина, решение Сталина. Следовательно, любая альтернатива, любой вариант развития общества исключен.
И добро бы эту идею, губящую фантастику на корню, проповедовал лишь Радек. Куда большим авторитетом для писателей был Максим Горький, который в том же году написал статью «Правда социализма», где доказывал, что Сталин — это Ленин сегодня, что в нем объединились «ум великого теоретика, смелость талантливого хозяина, интуиция подлинного революционера»… Критик А. Турков, рассуждая в 1953 году о Горьком, писал: «Известно, как мягко и тактично разъяснял Иосиф Виссарионович Сталин Горькому роль критики и самокритики в нашем обществе… Горький отлично понял и принял на вооружение сталинские идеи».
Съезд писателей, открывшийся в 1934 году для того, чтобы прекратить всяческие разногласия в общем хоре писателей, прошел под лозунгом социалистического реализма. И, как говорилось в ту пору, «товарищ Сталин указал единственно верный творческий метод в художественной литературе — это метод социалистического реализма. Произведения Горького дают нам блестящие образцы применения этого метода на практике. Съезд должен помочь писателям в претворении этого метода в жизнь».
Теперь представим себе писателя-фантаста, того же Александра Беляева, который должен воспринимать указания съезда как руководство для своей дальнейшей работы. При разработке метода никто, разумеется, о фантастике, которой в те дни не существовало, и не думал. Социалистический реализм воспринимался как общий закон воспевания существующего строя. Как фантасту вписаться в этот хор?
Разъяснения в том же году дал комсомольский вождь А. Косырев. В своей статье «Огонь по мелкобуржуазной стихии» он дал указания молодежным писателям. Они, по его мнению, «должны твердо уяснить себе, насколько велика их роль в формировании и воспитании нового человека социалистического общества. Строя социализм, мы каждую пядь, каждый участок завоевываем в бою, а там, где идет бой, должны быть жертвы. Борьба идет, мы бьем врага, и он становится все ожесточенней. Поэтому каждого молодого рабочего, каждого взрослого рабочего и колхозника нужно поднять до уровня понимания трудностей, которые неизбежны в этой борьбе».
Будучи одним из пропагандистов и апологетов придуманной Сталиным теории обострения классовой борьбы в процессе построения социализма, Косырев через несколько лет потребует смертной казни для советских маршалов, а еще через год и сам станет жертвой столь горячо воспетой борьбы. Но писатели, что печатались в комсомольских и молодежных изданиях, должны были эти его слова принимать как закон, потому что в государстве существовала нерушимая система вождей. Был Вождь, а под ним, естественно, вожди поменьше, и в ведомстве каждого шло то же славословие в адрес вождя, и он, подобно главному, в доступных пределах карал и миловал. Чаще карал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: