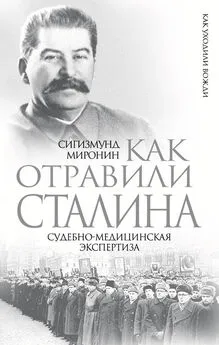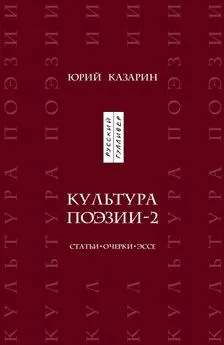Какой-то Казарин - Экспертиза. Роман
Тут можно читать онлайн Какой-то Казарин - Экспертиза. Роман - бесплатно
ознакомительный отрывок.
Жанр: Научная Фантастика, издательство Литагент Ридеро.
Здесь Вы можете читать ознакомительный отрывок из книги
онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть),
предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2,
найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации.
Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.
- Название:Экспертиза. Роман
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448574917
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Какой-то Казарин - Экспертиза. Роман краткое содержание
Экспертиза. Роман - описание и краткое содержание, автор Какой-то Казарин, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Мир меняется, но для того, чтобы его понять, нужно прежде всего разобраться в себе. Большая экспертиза может дать ответы на многие вопросы. Главный герой работает экспертом в компании, косвенно влияющей своей деятельностью на миропорядок. Он, как никто другой, должен разбираться в людях, но он тоже всего лишь человек. Чтобы понять и мир, и себя, герою предстоит пройти путь от простоты к сложности и обратно. Экспертиза помогает многое расставить по местам.
Экспертиза. Роман - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Экспертиза. Роман - читать книгу онлайн бесплатно (ознакомительный отрывок), автор Какой-то Казарин
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать
Иногда она настолько сильна, что выстрел в голову выглядит подлинным освобождением. Так может продолжаться дня три. Я не могу ходить, с трудом двигаюсь и только и жду момента, когда боль немного отпустит. Иногда можно согнуть шею так, что, кажется, боль уходит. Это продолжается минуты три. Но три минуты – лишь краткая передышка, боль не сдается, настигая снова. В сущности, время проходит в поиске положения головы относительно тела. Потом приходит сон. Он ничего не меняет. Проснувшись, можно отметить, что прошло еще немного часов, а значит, избавление стало ближе. Но мне не победить в одиночку. Тогда я обращаюсь к Кристине. Я отправляюсь к ней в абсолютном тумане, боясь лишний раз пошевелиться. Любое движение отдает в голове еще большим повышением давления. Кажется, сейчас она взорвется сама собой. Думаю, Кристина не до конца понимает, что происходит, потому что у нее никогда не болит голова. Может быть, она принимает это за каприз, инсценировку, чтобы свидеться, не выходя из собственного мира, – но все это неважно. Я знаю – только она может избавить меня от боли. Укладываясь, я опускаю голову в ее теплые руки и закрываю глаза. Боль не уходит, но мне почему-то сразу становится легче. В какой-то момент она начинает выходить слезами, которые, как будто, очищают меня изнутри. Я рад, что Лиза не унаследовала эти приступы. Наверно, они передаются только по мужской линии. Кристина не знает, что я плачу в ее руках. Она просто лежит рядом и, скорее всего, думает о чем-то своем. Я, наконец, погружаюсь в глубокий сон, а, проснувшись, с облегчением чувствую, что пошел на поправку. Я расспрашиваю Кристину про Лизу. Какое-то время мы сидим рядом, глядя друг на друга. Мне хотелось бы дать определение любви, но оно не поддается. Любовью не может быть ни зависимость, ни способность помочь. Этот вопрос тоже находится среди отложенных, но не из-за усталости, а потому, что еще не пришло время на него ответить. Затем мы расходимся. Три потерянных дня – шок. После них всегда есть желание хорошенько подумать. Я записываю обрывки мыслей. Легко ли их записывать? Вот, она пронеслась, как порыв ветра. И что дальше? Что с этим делать? Сначала перевести в слова. Потом эти слова записать или наговорить. Допустим, я такой ловкий парень, что строчу со скоростью собственных раздумий. Это всегда приятно – представлять себя ловким парнем с быстрыми частями тела. Вот, я начирикал парочку откровений, мелькнувших в голове за один миг. Теперь ждем. Озарение унеслось. Помню, это было великолепно, и я взбудоражен. Еще какое-то время я будоражусь дальше, по инерции. Та-ак, теперь посмотрим, что это было. Читаем. Потом еще разок. Ну, да, да, что-то в этом, конечно, есть, …но где в тексте спряталось то вдохновение? Эй! Может, что-то не успел записать? Вот, и я говорю – язык это вранье. Вообще-то, где-то я уже слышал это. Пусть даже, это цитата, и в оригинале звучало как-то более торжественно. Пусть я не автор, но сочувствующий. Все – вранье. Все, что пишется и что говорится. Особенно, если это все со смыслом. Со смыслом – значит, осознанное вранье. Значит, специально кто-то подумал: а как бы так соврать, чтобы еще и со смыслом! В общем, все это к тому, что ничего, кроме обрывков своих мыслей я не могу предложить. Хорошо, если они сами выстроятся в ряд, но мне нет никакого интереса помогать им выстраиваться. В детстве с этим было проще. В десять лет я стал вести дневник. Не потому, что хотел прочитать его лет через тридцать и вернуться в те годы, – так, наверно, посоветовал бы папа Падло, а потому что у меня появилась серая тетрадка с пятью стопками пустых отрывных листков под обложкой. Их было штук по сто в каждой стопке. Это значит, тетрадки хватило примерно на пару лет. Она называлась «пятидневкой». То, что я записывал, не стоит называть обрывками мыслей. Мысли еще не были настолько бесформенны, чтобы у них завелись обрывки. Я излагал события: чаще, чтобы отписаться и отбросить эту тетрадку подальше. Однажды я ее возненавидел, потом привык. Снова возненавидел, потом привык окончательно. Но, несмотря на смешанные чувства, я не мог остановиться и прекратить записи. Я должен был дописать ее до последнего листка. Когда это свершилось, тетрадка отправилась в дальний угол. Я никогда не перечитывал ее. Мама моей тетрадкой тоже не интересовалась. Верхние листки пожелтели, а некоторые даже оторвались. Пришлось прикрепить их резинками. Какое-то время она то и дело попадалась под руку, и всякий раз я не знал, что с ней делать. Вроде бы в руках два года жизни, два года дисциплинированных каракуль, но с каждым годом их ценность уменьшается, потому что в ней ничего нет, кроме каких-то там смешных детских событий. В юности эти события еще более обесценились. Затем наступило время максимализма. С этой точки зрения детство вообще виделось бесполезным периодом, наконец-то окончательно и бесповоротно преодоленным. Тетрадка пряталась то тут, то там вместе с книжками и прочими предметами того времени. Однажды пришло время избавиться от всего разом. Недолго я вертел ее в руках, выбирая между ящиком и огромным мусорным мешком. Во мне клокотало стойкое желание освободить пространство. Я колебался не более пяти секунд. К тому же, мешок был и без того наполнен кучей ненужного хлама. Тетрадка отправилась туда без каких-либо вариантов. Потом я вышел на улицу, прошел привычной дорожкой и выкинул все в огромный мусорный бак. Я был очень сосредоточен. Когда я пытался запихнуть в него огромный мешок, откуда-то неожиданно появился потрепанный человек немного странного вида. Мне показалось, он уже хорошенько поковырялся в баке, когда я подошел, и вот, теперь возник рядом, чтобы продолжить свои поиски. «Можно, я посмотрю ваш мешок?» – деликатно спросил он вполне приличным голосом, так, будто мы были на равных, а ковыряние в мусоре – наше общее дело. Я не посмотрел на него. Мне не хотелось, чтоб он рылся в моем дневнике и прочих бумажках. «Не надо!» – резко ответил я, стараясь запихнуть мешок как можно глубже. Он был прозрачным, и край пятидневки торчал с самого верху. Человек отошел в сторону, я не оборачиваясь, направился домой. Дело сделано. Думаю, с момента рождения, дневник пожил лет десять, а затем отправился в последний путь. Бывает, хочется просто подержать его в руках, не говоря о том, чтобы полистать и попытаться прочесть синие каракули. Почувствовать запах серой обложки и синих чернил, запах бумаги, смешавшийся с запахом пыльного шкафа. Иногда мне кажется, что вот он, где-то рядом, только подойди да возьми. И тут же можно погрузиться в то время, когда мне десять лет. Что я думал тогда и что сейчас? Думал ли я тогда, каким стану? Не предал ли я того мальчика? Порадовался бы я тогда, увидев себя сегодня таким, а не другим? Воскликнул бы я: «Ух, ты!» или долго всматривался бы в эту худощавую фигуру и помятое лицо? Этих щемящих вопросов не возникло бы, сохрани я дневник.Читать дальше
Тёмная тема
↓
↑
Сбросить
Интервал:
↓
↑
Закладка:
Сделать