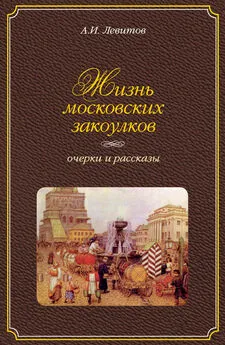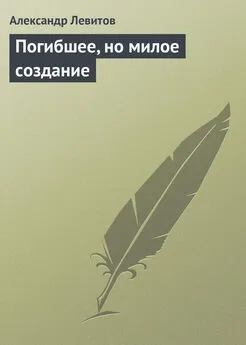Александр Левитов - Нравы московских девственных улиц
- Название:Нравы московских девственных улиц
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Худож. лит.
- Год:1977
- Город:М.:
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Левитов - Нравы московских девственных улиц краткое содержание
«Иван Сизой матушке Москве белокаменной, по долгом странствовании вне ее, здравия желает, всем ее широким четырем сторонам низкий поклон отдает.
Год с лишком шатался я по разным местам, а все нигде не видал того, что я так люблю в Москве, – это ее глухих, отдаленных от центра города улиц, которые давно как-то назвал девственными, с их, так влекущей к себе сердце мое, поразительной и своеобразною бедностью…»
Нравы московских девственных улиц - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
– За-р-ряжай ружье! – орал он старческим, но азартным голосом. – Кладсь! П-ли! Я вас, черти! Рр-рота, за мной! Д-дети, скорым шагом марш! С богом!
– Ну, пошла писать военная кость! – с хохотом толковали многочисленные кумовы жильцы, собирая с печи, из-под капитанской храброй руки, различные тряпки и горшки, махотки и полешки.
– Будет, будет, ваше вышебородие! Перестаньте только, Христа ради! – умолял кум жильца о прекращении батального огня.
– Ур-ра! Наша взяла! – окончательно вскрикивал старый вояка, снова ныряя на неопределенное время в запечное пространство.
– Оченно тронулись! – такими словами рекомендовал мне кум своего нового жильца. – Что будешь делать с бедностью? Иной раз сунешь ему на печку-то щец, хлебца, не токма что свои деньги… Выручишь их, свои-то деньги, с моими жильцами! Надоедает временем только – ужасти как… Раздразнят его башмашниковы ребятенки, так он целый день, лежа на печи, ртом-то все так-то выделывает: пу! пу! п-пу! Артиллерией, значит, по ним на дальних расстояниях действует. Вот докуда спятил: по маленьким-то ребятенкам из пушек палит!..
– Ну а из прежних жильцов никто не съехал от тебя? – спросил я.
– Из прежних?.. Нет, никто. Здесь уж все так-то: как укоренится кто на каком месте, так уж или с этого места прямо в гроб идет, или, ежели он подхалюза какая, так фарталом прогоняют на другую фатеру. Кресты есть из таких-то для нашего брата-съемщика – и-их какие тяжелые! Потому наш брат должен им потрафлять каждую минуту, чтобы только не доходили они до фартала, судиться бы только не ходили, потому они к этому делу все равно как к каше с маслом привыкли…
И действительно, все кумовы жильцы, которых я знал у него прежде, жили у него и теперь, как бы сговорившись умереть в его темном подвале. По-прежнему над всем гвалтом крикливой подвальной жизни властительно царил назойливый голосище старой свахи Акулины, трехаршинной бабы, в ужасающих всякую душу лохмотьях и с рыжею, жидковатою бородой. По-прежнему эта ямщик-баба расшевеливает во мне уснувшую было глубокую антипатию к ней тем, что к каждому слову, с которым она обращается ко мне, прибавляет самым сладким голоском «ваше благородие» и «сударь-барин», рассчитывая этими словами взять меня на удочку и слизать с меня полуштоф сладкой водки, особенно ею ценимой. А вот и эта старая девушка, неотходно сидящая в кухне на своем громадном, окованном железными полосами сундуке. Как назад тому много лет застало ее на этом сундуке известие, что человек, любивший ее, уехал на родину жениться и увез ее кровных сто двадцать рублей, так она, без малейшего слова, раскачнула тогда еще молодою головой да так и теперь ею постоянно раскачивает, – только теперь эта голова сокрушилась уже, замоталась и стала такая седая, сморщенная, некрасивая.
– Здравствуйте, Фаламей Ильич! – говорю я старому приятелю моему – башмачнику, тоже кумову жильцу, который терпеть не мог, когда кто-нибудь называл его настоящим именем Варфоломея.
– Здравствуйте, сударь, Иван Петрович! – радостно приветствовал меня Фаламей, вставая с кадушечки, на которой он тачал башмаки, и лобызаясь со мною. – Давно мы, сударь, с вами компании не водили. Вы что тут ерзаете, мазурики? – обратился он к своим многочисленным ребятенкам, быстро отколупывая у них на головах масла маслаком своего собственного большого пальца правой руки.
Толпа ребятишек, неутомимо сновавшая и горланившая по подвалу, как и все подвальное, была, в свою очередь, такою же, какою я оставил ее, хотя приметил, что теперь она стала гораздо гуще, а следовательно, и неугомоннее; но и это обстоятельство нисколько не изменяло кумова апартамента, потому что башмачник Фаламей не обделял никого из девчонок и мальчишек, составлявших молодое поколение подвала, когда задавал им трепака и колупал масло, отчего молодое поколение носило на своих головенках одинаково чесавшиеся больнушки, от которых, следственно, ревело точно так же и в настоящем случае, как ревело за год перед этим, ни на полтона даже не повышая и не понижая своих голосов.
Да, все обстояло в подвале по-прежнему, потому что очень трудно такой жизни построиться на какой-нибудь другой лад по той простой причине, что подо всем этим прекрасным небом нельзя найти лада, который был бы сколько-нибудь хуже этого. И господи! До того шло там все по-старому, что сам я, как и прежде, обманул ожидания ребячьей стаи, облепившей меня, потому что был вне всякой возможности дать что-нибудь на гостинцы этой малолетней, вечно голодающей братии.
Уныло и молчаливо отошла от меня, как говорят поэты, розовая юность, а я, как и всегда, что особенно люблю, стал прислушиваться к стенам подвала, которые на сей раз говорили мне так:
«Ну, что, Иван Петрович? Что, кум ты мой золотой? Куда ходил? Что выходил? Э-эх ты, ветер степной, Иван Петрович! Право, ветер! Вот тебе от нас первый привет. Думали мы, что ты, гуляючи по хорошему божьему свету, хоть чуточку поумнеешь, хоть немножко посократишься, а он все такой же… Что задумался-то? Глаза-то что на нас так пристально выпучил? Нечего на нас пучить глаз, потому узоры на нас всё те же…»
Шептали мне черные стены эти слова с какою-то особенно выразительною насмешкой, словно бы насмешкой этой они меня хотели образумить и наставить на какой-то, совершенно неизвестный мне, истинный путь.
Так, я помню, в старину, когда я был еще совсем малым ребенком, старая бабка моя, смотря на разные мои, как она говорила, дурацкие выходки, укоризненно и насмешливо покачивала своей седою головой и язвила меня острыми стрелами разных народных пословиц, вроде, примерно, следующей:
– Эх, дитя! Не будет в тебе путя…
До слез, бывало, пронимали меня эти многозначительные бабкины слова. Открывши в шепоте стен кумова подвала нечто схожее с ними, я бы тоже, вероятно, заплакал и теперь, ежели бы давно уже разлившаяся по телу моему злобная желчь не вытеснила из меня все без остатка мои горячие, искренние слезы.
IV
– Вот за это я тебя, куп, страсть как не люблю! – этим восклицанием вывел меня из моей задумчивости старик-кум (назовем его давнишним именем, приобретенным им в полку, где его прозвали Обгорелый). – Так вот за это я тебя недолюбливаю, – повторил Обгорелый. – Выпьешь ты, дружок, малость какую-нибудь и сейчас же задумаешься, лицо у тебя в синие пятна ударит, и словно бы ты в такие времена разорвать кого на мелкие части надумываешь. Право! Это мне очень не по нраву. Выпей-ка, авось, может, поотпустит тебя злоба-то твоя.
– Что же это, я все у тебя оглядел, увидал, что все на прежних местах стоит, – сказал я, – а про Катю не спрошу: где она у тебя?
– Помалчивай до поры до времени, – с какою-то плутоватою улыбкой ответил мне кум. – Мы тут такую-то крутую кашу завариваем, и как есть, братец ты мой, к самой каше ты подоспел. Вот счастливый какой, а еще все судьбой своей недоволен!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: