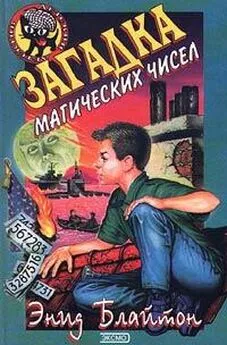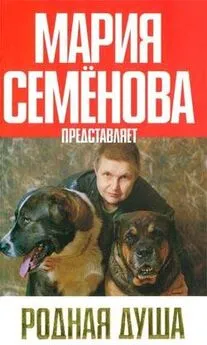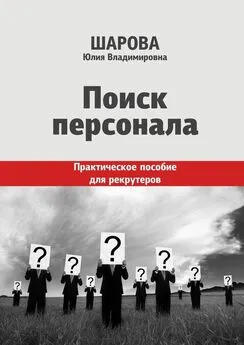Екатерина Шарова - Превыше чисел
- Название:Превыше чисел
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Журнал Аврора
- Год:1989
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Екатерина Шарова - Превыше чисел краткое содержание
Превыше чисел - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Накануне весенней сессии приходилось заниматься, пока не свалит сон или ненавистный кашель, и Аня старалась изо всех сил, преодолевая все и, действительно, грызя науку, как гранит. Не раз оглушенная бессонными ночами и приступами кашля, который налетал, как смерч, и, истерзав, улетучивался, Аня сидела за огромным, как плацдарм, письменным столом, заваленным учебниками, пораженная своей пустотой и тупостью, в которой было только животное удовольствие, что нет кашля и что за темным окном тихо сияет звездами спокойное озеро города.
Однажды, в раздражении на свое непонимание несколько раз прочитанной фразы, Аня с такой силой захлопнула тяжелый аккуратный конспект, что кашель неожиданно прошел, а тетка за стеной проснулась и, шлепая босыми ногами, пришла посмотреть, что случилось. Аня сказала, что ничего не случилось, просто книга упала — тетка покачала головой в огромных папильотках, хлопая по-совиному глазами, и пошла к себе, бормоча, что спать необходимо при любых обстоятельствах… Теткины прописные истины, которые она изрекала с большой значительностью, почему-то успокаивали Аню, а ее голова с папильотками отбросила странную рогатую тень на всю стену и уплыла, смешно покачиваясь. Аня потихоньку засмеялась и совсем успокоилась. Она откинулась на спинку кресла, закинула руки за голову и закрыла глаза. Веки были тяжелые и, казалось, что открыть их больше нельзя… «Наверно, у Вия были такие веки» — и Ане опять стало смешно от этого сравнения. Улыбаясь, она думала, что больше не сможет прочесть ни одной строчки, что она доверху наполнена теоремами и формулами и находится в состоянии насыщения, когда нельзя больше воспринять ни одной буквы. Где-то вдали светились и сияли кривые, уходящие в бесконечность по своим законам, возникали обрывки знаний — буквы, формулы, знаки, законы, начала и концы теорем, и фигуры вычерчивались сами, как в мультипликации, — все это плыло и растворялось, оставляя после себя тоску непонятого, которое должно вот-вот поняться, но ускользало — и надо было еще немного напрячься и додумать и все поймется, но не было сил напрячься и додумать… Аня проснулась в страхе от этого хаоса неразрешенных проблем, — будто нашествия непонятого, которое требовало от нее решения… Она схватила наушники, как спасательный круг, надела кое-как и стала быстро крутить приемник, ныряя в шум эфира от бесшумного грохота своих геометрических видений… Закрутились, сменяя друг друга, языки, голоса, приветливые и злые, взвизги джазов, въедливые гудки, и среди этого возбужденного потока земных речей и звуков вдруг нашлась точка еле уловимой мелодии: где-то далеко нежный, исчезающе нежный голос пел и, хоть были там непонятные слова, но и они были только музыкой — они легко окружили Аню, легко отторгли от нее странные ощущения пустоты непонятого, и те таяли, уходили, расплывались, становились нестрашными и ненужными… Сейчас вдохнуть бы деревенского воздуха, увидеть земной простор — не тот, который из окна, — это для птиц, а тот привычный простор, где все поля и поля и дорога без асфальта, земляная, в глиняных вязких следах, с лужами и талым снегом… Услышать бы, как бабушка разговаривает со всяким предметом, будь то печка, или дрова, или посуда: «Вот я тебя крышкой шшас накрою — не серчай, а ты ставай, ставай ровно, не кренись, не хромый!» Разве тетка говорит так плавно и ровно, разве может сочинять на ходу смешную присказку да еще и пропеть ее, так что сразу станет весело? Стрекочет, как далекий трактор! Ане стало вдруг горько, что надо опять заниматься и что ей уже никогда не оторваться от этой горы книг, а то, что было ее жизнью, становится воспоминанием и станет дальше почти эпизодом среди длиннейших расчетов, сложных рассуждений и задач, которые часто неразрешимы. А музыка говорит о том, что нельзя терять, нельзя забывать того, что в детстве пересказывала Стасу, что без этого нет и не может быть жизни… И все хочется удержать, но как удержать? Ей скоро двадцать лет, она крепкая, молодая, — вон, какая шея у нее, как у балерины, и грудь — без лифчика даже лучше, — она качнула грудью и посмотрела в зеркало… и плясать она умеет и старые, и новые танцы, и петь умеет, и знает от бабушки такие песни, каких никто не знает в городе, и не нужно ей ни задач, ни решений, потому что она любит Стаса и хочет его любви больше всех математик на свете… И глядя в темное мерцающее лицо города за окном, Аня заплакала впервые за два года.
Сколько мы умудряемся выучивать за свою жизнь и как тяжело прокладываются все усложняющиеся пути к познанию, из которого останется с нами малость, а растеряется множество…
С каждым весенним днем все труднее становилось учить и, главное, сидеть подолгу, — Аня стала часто уходить в общежитие из безусловных удобств тетинаташиной квартиры. И не потому, что ее тяготило там что-нибудь или очень хотелось в шумное общежитие, хотя занималось там легче, чем даже в библиотеке, просто нужно было двигаться, идти, дышать вольно, смотреть на все вокруг и чувствовать свое тело. Ей хотелось, чтобы прошла эта скованность движений и замкнутость лица, которые появляются, если долго сидишь над учебниками. Аня не считала себя красивой, но думала, что она «не хуже других», и не знала, что взгляд ее глаз, раскосых и близко посаженных, как взгляд дикой кошки, немного косящий от напряженного внимания, был проницателен и ясен, а темные высокие брови придавали лицу выражение постоянного изумления. Когда ей было лет пятнадцать, она скромно спросила: «Баб, а баб! А я буду красивая?» Бабушка зорко посмотрела на нее, как на какую-то новость, и сказала: «У нас в семье все красивые» и, помолчав, добавила: «Оттого што порода хорошая». Но в прошлый приезд ее в деревню их учитель и сосед сказал: «Не узнать тебя, Анюта, — похудела, повзрослела! Может, не ты науку грызешь, а та тебя?» И бабушка долго и с каким-то сомнением рассматривала ее, а потом сказала: «Штой-то ты облезлая стала, Аннушка, а уезжала-то как маков цвет!» — и она тоненько не то всхлипнула, не то пропела последний слог на манер причитания, на которое легко переходила в драматические минуты жизни. Аня подскочила к зеркалу и стала себя рассматривать: худющая, губы какие-то белые и грудь стала меньше, а глаза уставились на нее из зеркала с таким пристальным и посторонним вниманием, что даже самой стало жутко. «Это что ж такое?» — сказала она себе и стала быстро причесываться. Потом оделась и вышла на улицу.
Аня не умела гулять бесцельно, ей необходимо было идти по делу или без, но чтобы ясен был конечный пункт. Особенно ей нравилось идти на почту, и ходила она туда всегда разными дорогами и чувствовала себя там самостоятельной, потому что тетка не стояла за спиной, диктуя свои приветы и советы. И хотя надо заниматься и заниматься, но что-то сил нет от тоски по дому и бабушке, тем более что надо рассказать о своем житье у тетки и о кашле тоже, — пусть бабушка попросит у своего Авксентия травы от кашля, а то все эти теткины лекарства совсем не помогают, и мед не такой, как надо быть меду, — больше похож на сахарный сироп, а стоит рубль и пять копеек маленькая баночка. Аня купила марки с изображением Пушкина и его жены перед зеркалом, конверты, бумагу и села у окна за стеклянный столик, расположившись не спеша и сегодня с особенно приятным чувством независимости, так что мысленно она все время говорила какие-то очень гордые и прекрасные слова и получалось как будто стихи… Она написала о тетке вежливо, но с юмором, особенно об ее пристрастии к магазинам и нарядам, хотя и так у нее два шкафа всяких нарядов, написала о теткиной квартире, в которой бабушка никогда не была, о статуэтках и большой мраморной женщине без рук и без головы, но ослепительно белой и красивой, особенно утром, когда светит на нее солнце, о книгах — как их много и какие есть старинные в тяжелых переплетах с золотым ободком на страницах, — потом с теткиных нарядов и книг перешла на студентов, о которых раньше писала бабушке, и та требовала продолжения и даже передавала им поклоны, потом о профессоре Егорове, принимавшем у нее зачет по высшей алгебре: он сказал, что поставил бы ей «отлично», если бы это был экзамен, и похвалил ее память. Она не написала, правда, что профессор за два года один раз поставил «отлично», потом на каждом семинаре удивлялся: «Дорохов, неужели это вам я поставил пять в прошлую сессию?», так что Дорохов однажды ответил: «Извините, Валентин Степаныч, так как-то вышло неожиданно…» И все засмеялись. Но главное было спросить о Стасе и спросить так, чтобы как-будто и не спрашивала… Если бы Аня могла с тем же юмором думать о Стасе, как о тете Наташе, она, наверно, сравнила бы себя с бедным Финном из «Руслана и Людмилы», а Стаса с прекрасной Наиной, отвергавшей все героические победы своего рыцаря. Аня с детства все делала, чтобы поразить Стаса, но ее белокурый принц взглядывал на нее своими прекрасными серыми глазами и чуть усмехался краем губ. Эта усмешка всегда ошеломляла Аню — она вспыхивала, замирала, какое-то невиданное чудо происходило в ней, как будто она таяла и сгорала под солнцем, как та снеговая девчонка из сказки, но перед Стасом она стояла тихо, молча, только глаза опустит и сухие губы чуть шевельнутся… Может быть, ее сдержанность и была необходимой для их дружбы или, скорее, для разрешения посещать его время от времени и пересказывать ему то, что нужно читать в школе по литературе и что он не читал. Вопреки своей пасторальной внешности Стас признавал только мужские занятия, гонял от себя девчонок, которые все, как одна, млели перед его красотой и ловкостью, и хорошо учился по техническим предметам, а литературу и особенно сочинения не любил. Его ошибки в диктантах вспоминались из года в год, а сочинения он писал с трудом, так что, если бы не Аня, неизвестно как он сумел бы закончить десять классов. Унаследовав от бабушки искусство рассказывать, Аня переняла у нее и манеру, так что и «Разгром» Фадеева, и «Анну Каренину» Толстого Аня не рассказывала, а сказывала: «…И вот, значит, приходит к Анне Карениной ее старый муж и говорит: «Что это, — говорит, — жена, слышу я про тебя от людей?.. Или врут люди?..» Мать Стаса, белоруска Мотя, женщина крикливая и пылкая, глядя на сына, всегда удивлялась его красоте, какой не было ни у отца, ни у нее, его «тихости» и необыкновенному тихому упрямству, с которым он с самого появления своего на свет делал все по-своему. Мотя, которая чужда была послушанию, любила шум, гостей, причем гостей таких же шумных, как она, с плясками до утра и бурными ссорами, перед сыном становилась настороженной и кроткой, ходила по дому на цыпочках и прислушивалась к малейшему его движению, чтобы все сделать «по его». Ревнуя своего «непутного» мужика — отца Стаса, Мотя, каких только сцен ему не устраивала, пренебрегая возможностью «рукопашной схватки», к которой обычно обращался ее муж, пораженный ее натиском и отсутствием красноречия для отпора ее нелепейших обвинений и тем, что «люди скажут». Беременная Стасом, она бегала за мужем, улавливая каждый его взгляд в сторону и, ничего не прощая, придумывала варианты мужниных похождений и обвиняла в них мужа и свекровь. От ее криков в доме дым стоял коромыслом, и свекровь убегала к соседям и жаловалась им в ужасе и смятении: «Что ж это, люди добрые? Баба-то на сносях, а покоя от нея нет ни днем, ни ночью… Вот увидите, черта родит!» И соседки качали головами и кивали в знак абсолютного согласия. А родился прекрасный и тихий Стас.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: